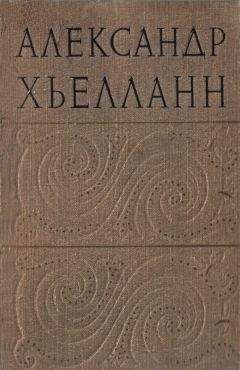— А нельзя было накрепко приколотить выломанные доски?
— Разумеется, можно было, господин кандидат! Но я ведь хочу поймать голубчиков! Они должны понести заслуженное наказание. Мое чувство справедливости глубоко уязвлено.
— Какое сокровище такая верная собака!
— Да, да, господин коммерсант, ваш Верный настоящая жемчужина. Это, без всякого сомнения, — самая красивая собака во всем…
— Константинополе… — вставил кандидат Хансен.
— Это — старая острота господина Хансена, — объяснил господин коммерсант. — Он перекрестил Северные Афины в Северный Константинополь, потому что здесь, по его мнению, слишком много собак.
— Это неплохо с точки зрения налога на собак, — сказал кто-то из присутствующих.
— Да, если бы только налог на собак не распределялся так несправедливо, — проворчал кандидат Хансен. — Это же бессмыслица, если какая-нибудь честная пожилая дама, которая держит свою собачку в мешочке с шитьем, должна платить за нее столько же, сколько платит владелец полудикого животного размерами с небольшого льва, причиняющего людям немало беспокойств.
— Как же, позвольте спросить, вы стали бы исчислять налог на собак?
— Конечно, по весу, — ответил не задумываясь господин Вигго Хансен.
Пожилые коммерсанты и члены муниципалитета смеялись над предложением взвешивать собак так весело, что гости, сидевшие на противоположном конце стола и продолжавшие с жаром отстаивать свои непоколебимые убеждения, заинтересовались и, позабыв о споре, начали прислушиваться к разговору о собаках.
И вопрос о том, можно ли назвать светской дамой, настоящей светской дамой даму, о которой известно, что она как-то раз на пароходе положила на скамью ножки, ножки в туфельках и расшитых чулках, — этот вопрос так и повис в воздухе неразрешенным.
— Господин кандидат, вы, кажется, прямо ненавидите собак, — сказала его соседка справа.
— Фру Хансен, я могу объяснить вам причину! — воскликнул доктор на противоположной стороне стола. — Он ужасно боится собак.
— Однако, господин кандидат, вы все же должны согласиться, что собака всегда была верным спутником человека, — продолжала фру Хансен.
— Совершенно правильно, и я мог бы рассказать вам и о том, чему собака научилась у человека, и о том, чему человек научился у собаки.
— О, расскажите, расскажите! — послышалось со всех сторон.
— С удовольствием! Во-первых, человек научил собаку вилять хвостом и пресмыкаться.
— Странно, очень странно! — воскликнула старая бабушка.
— Кроме того, собака усвоила все качества, делающие людей низкими и неблагодарными. Я говорю о внешнем льстивом угодничестве при внутренней грубости и презрении к окружающим, об ограниченной привязанности ко всему своему при недоверчиво враждебном отношении ко всему чужому.
Да, благородное животное столь многому научилось, что усвоило чисто человеческое искусство — судить о людях по платью: хорошо одетых людей собака спокойно пропускает, а оборванных хватает за ноги.
Здесь речь господина кандидата была прервана хором недовольных голосов, а фрекен Тира в гневе сжала фруктовый нож в своей маленькой ручке.
Однако некоторые из гостей хотели послушать теперь, чему же человек научился у собаки, и господин Вигго Хансен продолжал с возрастающим волнением и горечью:
— Собака приучила человека ценить раболепное, ничем не заслуженное обожание. Если в ответ на несправедливое, дурное обращение и побои встречаешь только вечное виляние хвостом, ползание на брюхе и язык, который лижет руки господина, то в конце концов начинаешь считать себя замечательным молодцом, который вполне заслуживает такой преданности. И, перенося свой опыт с собаки на окружающих людей, хозяин собаки меньше держит себя в узде и думает, что везде встретит виляющие хвосты и лижущие языки. А если ожидания обманывают его, он презрительно отворачивается от людей и возносит хвалы собаке.
Речь кандидата снова прервали. Некоторые смеялись, но большинство было возмущено. Однако Вигго Хансен был необычайно возбужден, его слабый и в то же время резкий голос пробивался сквозь гул возражений, и он продолжал:
— Так как мы говорим о собаках, разрешите мне выдвинуть свою собственную, необычайно глубокомысленную гипотезу. Не говорит ли об особенностях нашего национального характера то обстоятельство, что как раз у нас создана эта благородная порода собак: настоящие знаменитые датские доги? Разве не напоминает это сильное широкогрудое животное с тяжелыми лапами, черной мордой и страшными зубами, но такое добродушное, безобидное и ласковое, о знаменитой нерушимой датской преданности, которая в ответ на несправедливость и жестокость только вечно виляет хвостом, ползает на брюхе и лижет руки господина? И когда мы восхищаемся этим животным, созданным по нашему образу и подобию, разве мы не гладим его по голове со своего рода грустным самовосхвалением: «А ты все-таки доброе, верное, поистине великое и замечательное создание».
— Послушайте, господин Хансен! Я вынужден обратить ваше внимание на то, что есть вещи, которые в моем доме…
Хозяин негодовал. Но один его добродушный родственник поспешно прервал его:
— Господин кандидат, я — сельский житель, а для нас, согласитесь, хороший сторож на дворе — просто необходим. Хе-хе!
— Ну, конечно, — маленькая дворняжка, которая может лаем разбудить работника.
— Нет уж, спасибо! Нам необходима порядочная собака, чтобы она могла схватить каналью за горло! Я сейчас держу прекрасную породистую собаку.
— А если прибежит честный парень, чтобы сообщить вам о пожаре на заднем дворе, и ваша прекрасная породистая собака схватит его за горло? Что тогда?
— Тогда дело скверно, — засмеялся сельский житель, засмеялись и остальные.
Господин Вигго Хансен так увлекся, отвечая на возражения, сыпавшиеся со всех сторон, и бросая направо и налево невероятнейшие парадоксы, что все, особенно молодежь, от души веселились, и никто не обратил серьезного внимания на все нараставшее ожесточение в его речи.
— Но сторожевых собак, сторожевых собак вы все же разрешите нам сохранить, господин кандидат! — воскликнул со смехом один торговец углем.
— Ни в коем случае! Ведь это нелепость, если бедного человека, у которого нет ни куска угля и который приходит к горе угля, чтобы наполнить свой мешок, будет терзать дикий зверь. Разве есть хоть какое-нибудь разумное соответствие между столь ничтожным проступком и таким ужасным наказанием.
— Нельзя ли узнать, как вы охраняли бы ваши горы угля, если бы они у вас были?
— Я бы поставил надежную ограду. А если бы я очень боялся воров, то нанял бы сторожа, который вежливо, но решительно говорил бы явившимся с мешком: «Извините, но мой хозяин очень бережет свой уголь, и вам не удастся наполнить здесь свой мешок. Убирайтесь поживее!»
Среди всеобщего смеха, последовавшего за этой парадоксальной фразой, раздался голос пастора, настроенного весьма серьезно:
— Мне кажется, что в этой дискуссии недостает одного — недостает того, что я назвал бы этическим моментом. Разве преступление, которое мы называем воровством, не вызывает в сердцах у всех нас, присутствующих здесь, вполне определенного, отчетливого чувства возмущения?
Слова пастора встретили у всех горячую поддержку.
— И неужели нас может не возмутить то, что преступление, которое и божеские и человеческие законы называют одним из наихудших, здесь объявляется ничтожным и незначительным проступком? Разве подобные речи не оказывают в высшей степени вредного, опасного для общества влияния?
— Позвольте и мне, — тотчас же ответил неутомимый Вигго Хансен, — подчеркнуть этический момент. Разве у несчетного множества людей, не присутствующих здесь, не вызывает в сердцах вполне определенного, отчетливого чувства возмущения то преступление, которое они называют богатством? И неужели тот, у кого нет угля, а есть лишь пустой мешок, не возмущается, если человек, позволяющий себе иметь двести — триста тысяч тонн угля, спускает диких зверей для охраны своих угольных гор и ложится спать, написав на воротах: «На ночь собак спускают с цепи». Разве такие вещи не возбуждают в высшей степени умы и не оказывают опасного для общества влияния?
— Ох, боже милосердный! Да он просто якобинец! — воскликнула старая бабушка.
Многие также что-то недовольно бормотали. Он зашел слишком далеко. Его речь уже перестала быть занимательной. Только некоторые из гостей еще продолжали улыбаться:
— Он не верит ни единому слову из всего, что сказал, — это у него лишь такая манера. Выпьем, Хансен!
Но хозяин отнесся к словам Вигго Хансена серьезнее. Он думал о себе самом, он думал о Верном. И он начал чрезвычайно вежливо: