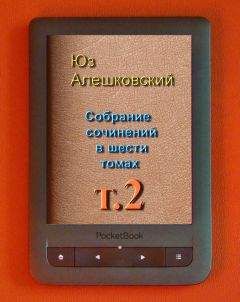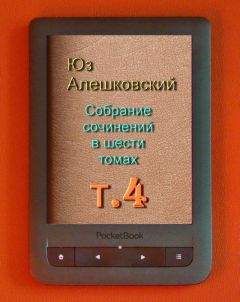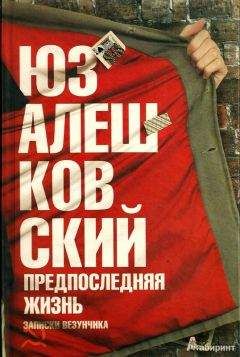Но куда деваются бесы? Они остаются в воде, согласно вульгарной логике… И в российской словесности бесы возникали на фоне водной глади: пушкинский Черт плавал перед Балдой, Булгаков выводил свою нечисть посидеть на лавочке подле Патриарших (!!!) прудов…
Юз Алешковский в своем романе селит бесов в бассейне «Москва», но меняет масштаб: его бесы – такая мелочь, что на весь их «легион» оказывается достаточно одного атеиста и одного дохлого жареного поросенка с московского рождественского застолья, которого выбросят из окна в ночь… Бесы, как персонажи русской классической литературы, известны давно. Само множественное число – «бесы» – привычно для российской словесности со времен А.С. Пушкина. Для России нынешней бесы – это прежде всего апелляция к «Бесам» Ф.М. Достоевского, с которых ныне принято одномерно считывать большевиков, гениально предсказанных Федором Михайловичем. Наследуя ряду традиций, Алешковский создает принципиально новый тип бесов.
Бесы Алешковского отличаются от всех предыдущих прежде всего субстанцией и размерами. Они бесплотны: «плазменные», прозрачные, мерцающие зеленоватым светом, чрезвычайно мелкие – маленькие, мерзкие, измельчавшие за две тысячи лет с момента распятия Христа. Им дан статус глистов, бактерий, микробов, пронизывающих пространство воды. И такие параметры бесов делают их страшно далекими рождественским чертям классической литературы. Они – не роскошный Мефистофель средневековой Германии и даже не пудель. Не недуг, по Томасу Манну поразивший мозг композитора Леверкюна в романе «Доктор Фаустус». Они внеположны герою, как у Т. Манна, но субстанция их ближе к бледным спирохетам, поразившим мозг Ницше-Леверкюна, с той только разницей, что спирохеты Алешковского снуют снаружи, не проникая в мозг.
Это гнус, москит – в отличие от плотских и плотных чертей Пушкина, Гоголя, Достоевского, Булгакова. Они ближе к Гнусику Клайва Льюиса («Письма Баламута»), но, в отличие от бесов мирных протестантов, они необаятельны и лишены индивидуальных черт. ПЛАЗМА, данная через функцию, разъедающая сомнением, – вот бесы Алешковского. И эта их личина и есть самое опасное – для автора! – откровение. Ибо Гете, Пушкин, Гоголь, Достоевский и даже Булгаков – льстили «черному ведомству», создавая образ мрази в объемах, соразмерных человеку.
Алешковский лишил бесов «маскировки» (термин Ю. А.): разоблачил, дезавуировал, низвел до нераспознаваемости,«опустил» мразь до размера мрази. Тем самым предавая огласке главную тайну инфернального дна: его нераспознаваемость. Юз Алешковский дешифрует библейскую притчу, разворачивает ее до масштабов романа, приземляет до реальности и переносит в Москву. Погружает читателя в знакомый раблезианско-свифтовский мир нарушенных соразмерностей, где атеист Гелий оказывается Гулливером в стране лилипутских бесов, а Христом предстает изгнанное пастухами-большевиками христианство Руси…
Автор делает то, что опущено в притче: открывает драму бесноватого. Приподнимает завесу над процессом сотворения чуда и, в противовес статике и заданности библейской притчи, создает напряженный процесс перемещения бесов. Динамика романа функционально стала экспозицией притчи: Алешковский вывел на сцену бесноватого до его встречи с Христом, до крика «Спаси!» и так приоткрыл скрытый мир бытия самого Легиона. Равно как и последующее переселение бесов в поросенка сделал процессом, педантично проследив, кто, за кем, как и куда – в какое отверстие – ушел… Алешковский раздробил процесс перехода бесов на мелкие фазы, снизив пафос притчи до фантастического реализма, где на одном клочке суши сошлись не Сын Божий и Человек страдающий, а бес и атеист встретились в бассейне в центре города, оставленного Богом. В столице страны, от которой отвернулся Бог. Алешковский делает важное открытие: бес не страшен сам по себе. Страшна оставленность Богом. Мелкие безобидные бесы овладевают Гелием, а следствием этого оказывается то, что уходит любовь: и чувство, и женщина.
Так бес Алешковского предстает не наличием зла, а отсутствием добра – любви, любовного счастья и Бога. Автор определяет, что сие есть – АД атеиста: оставленность Богом и Любовью. А дальше – рассматривает подробности: как образовавшуюся пустоту пытаются заполнить и сам герой, и его бесы. Это горчайшие страницы романа, когда привычный способ заполнения пустоты водкой обретает новую деталь: на краю стакана, свесив лапки, сидит маленький зеленоватый бес… То, что прежде было прерогативой допившегося до белой горячки русского мужика, – отныне стало достоянием культуры. И это тоже – открытие Алешковского.
Благодаря повести «Руру» мы знаем, каков ОН – тот, которого якобы нет в «Перстне…». Бог автора, в которого не веруют в Москве и России герои романа. И формула «Его – нет, а они – есть» – это открытие Гелия-атеиста. Но сам автор прекрасно знает, что они – это тоже часть единого Божьего мира. А потому – Юз Алешковский потешается над своим героем: сам того не ведая, атеист Гелий оказывается человеком верующим, признающим, правда, только нижний уровень тонкого мира. И такой герой прав: свою личную оставленность Богом он считывает как отсутствие Бога вообще. Но автору, Сочинителю Бог открыт, и Ю. Алешковский рассматривает своего героя в контексте вертикали: от низа, открытого герою в образах, доступных его восприятию, – до верха, закрытого для героя до поры, отведенной ему автором.
Атеист-то верующий, – вот в чем светлый апофеоз романа. Чтобы увидеть это, следовало просто подняться ступенькой выше. Герой этого не смог, зато смог автор: Алешковский поднялся и над героем, и над его миром. И увидел атеиста как фрагмент Божьего мира, и привел его в храм.
Герой, оставаясь в плену собственных предрассудков, выжил только за счет своей обращенности к Богу. Атеист – он еще не обратился в веру, но уже пошел, пополз в сторону храма, и эта новая для него адресность дала новый жизненный импульс и самому герою, и произведению в целом. В романе «Перстень в футляре» Юз Алешковский привел героя в храм, а литературе вернул ее исконную роль пастыря. Два великих дела сделал художник, мало ведая о том, – как и должно быть в истинном творчестве.
Нью-Йорк, сентябрь 1993 г.
Апология
Вот уж кто награжден каким-то вечным детством! Старость – замедление, а Юз быстр. Легок на подъем. Поехали! В Вермонт за водой из водопада, в русскую лавочку за килькой, в Москву на презентацию книги, в Чикаго на день рождения подруги знакомого зубного врача. Смена настроений стремительна. Ну его… Московские тусовки омерзительны. Чудовищно скучная баба. Разве ж это килька?… А может, все-таки?.. Поехали! В Нью-Йорк к четырем утра на рыбный рынок. Во Флориду купаться. В Италию с заездом в Португалию… Реакции, как у летчика-испытателя. В июне 1983 года мы были вместе на одной конференции в Милане, а потом наметили несколько дней полного отдыха в Венеции. Утром сели в поезд, болтали, поглядывали в окно на скучные ломбардские пейзажи, слегка выпивали, закусывали. В Вероне поезд остановился на втором пути, а по первому пути, прямо по шпалам, набычившись, таща в каждой руке по чемодану, шел поэт Наум (Эма) Коржавин. Очень плохо видящий, он в этот момент целеустремления, видимо, и не слышал ничего – а навстречу ему быстро шел поезд. От ужаса я обомлел. А Юз рванул вниз окно и зычно крикнул: «Эма, ты куда?». Не удивившийся Коржавин мотнул головой и крикнул в ответ: «В Верону». Дикие русские возгласы привлекли внимание железнодорожника на первом перроне. Он спрыгнул на рельсы и оттолкнул вбок Коржавина с чемоданами. Через секунду промчался встречный. Юз плюхнулся на свое место и сказал: «Эма Каренина…»
Острый интерес к игрушкам – магнитофонам, приемникам, апельсиновыжималкам, электрическим зубным щеткам с переключением скоростей. Картинкам, пластинкам, машинкам. Иногда он даже краснеет, так ему хочется. И по-детски быстро интерес к новой игрушке пропадает. Было бы разорительно, если бы не блошиные рынки и «гаражные распродажи». Как-то мы ехали к морю и Юз, конечно, тормознул, завидев кучу хлама, выставленную у крыльца одного дома и в открытых дверях гаража. Среди ломаных ламп и щербатых тарелок он приглядел небольшое сооружение, изделие художника-любителя – чучело птички сидит на домике – и приобрел вещицу за один доллар. Мы отъехали, завернули за угол, Юз опять остановил машину, вылез и аккуратно положил уже опротивевшую покупку на обочину дороги.
Я подозреваю, что для него не существует неодушевленных предметов. Он вступает в сложные и противоречивые отношения с вещами по всему диапазону изменчивых чувств, от любви до ненависти. У него в романе «Смерть в Москве» есть причудливый андерсеновский мотив – милые живые вещи томятся в плену у заживо мертвого коммуниста.