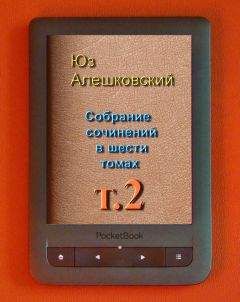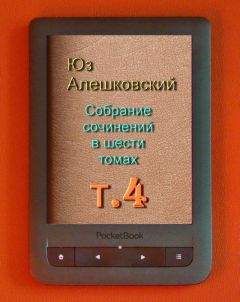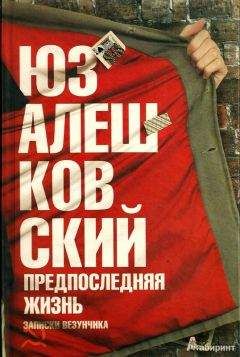В «Платочке» смешиваются экзистенциальное отчаяние и бытовой фарс, и результат реакции – взрыв. Подобным образом в трагическом Прологе к «Поэме без героя» проступает «чужое слово» самой смешной русской комедии:
…А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает…
Сравните:
АННА АНДРЕЕВНА. Что тут пишет он мне в записке? (Читает.) «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мне было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек… (Останавливается.) Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?
ДОБЧИНСКИЙ. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был прописан.
Буквально на приеме проступающего чужого слова и написан «Платочек». Одноногий ветеран, пациент дурдома Вдовушкин, пишет «крик чистосердечного признания» на обороте истории болезни маньяка, вообразившего себя «молодым Марксом», а когда Вдовушкин уходит в туалет покурить, свое вписывают то «молодой Маркс», то другой несчастный, вообразивший себя Лениным: «А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому, огромному лбу». Но и Маркс, и Ленин, и Вдовушкин пишут поверх некоего вечного текста. Какого – становится ясно в середине книги, когда судьба заносит героя в послевоенный колхоз. Вдовушкин живет там, как библейский патриарх, окруженный женами, детьми и стадами: «Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов… Благодаря моей хозяйственной жиле, имели мы трех неучтенных коров для ребятни».
…И дети мои – вокруг меня;
когда во млеке омывались мои шаги…
(Книга Иова, глава 29;
перевод В. Аверинцева)
Вся жизнь Иова-Вдовушкина – цепь мучительных потерь. Он теряет родителей, друга, ногу, имя, жену, нерожденного ребенка, возлюбленную, собаку, свободу, зрение, голос. Жизнь состругивается с этого человека, так что остается одна перемученная и вопящая, обратясь к небу, душа:
Если бы взвесить скорбь мою
и боль положить на весы!
Тяжелее она, чем песок морей;
оттого и дики слова мои!
(Там же, глава 6)
А еще спрашивают: отчего Алешковский пользуется диким русским языком? «Оттого…», от скорби тяжелой. Великий Гоголь говорил о смехе сквозь слезы, но это не было его собственным forte. Пушкин смеялся, а потом загрустил, слушая «Мертвые души», но не плакал же. И никогда никто не хохотал над «Шинелью». (Плакал от умиления дружбой Чичикова и Манилова только наивный мальчик в повести Добычина.) После Шекспира единственный трагический писатель, который умел смешить до слез (и после слез), это Достоевский. Радужные переливы ужасного-смешного в монологах Мармеладова, Лебедева, Лебядкина, Кириллова и Дмитрия Карамазова никаким мастерством не объяснишь – только вдохновением. А вдохновение не объяснишь в терминах психологии, оно загадочно.
Как-то раз я был свидетелем вдохновенного наития. Ни воспроизвести, ни объяснить увиденное я не берусь. Рассказываю только, чтобы свидетельствовать непонятность, необъяснимость явления.
Лет десять-двенадцать назад мы оказались с Юзом в одно время в Нью-Йорке, ночевали в квартире Бродского, который уехал надолго в Европу. Наутро мы собирались разъезжаться по домам и, пока мы собирались, подъехал грузовик с вещами более долгосрочного постояльца: на все время отсутствия Иосифа к нему вселялся его друг Дерек Уолкотт (тогда еще не нобелевский лауреат, но что замечательный поэт, я уже знал, так как читал роман в стихах «Омерос», эпос карибского захолустья, написанный «поверх» «Одиссеи» Гомера). Мы вручили Уолкотту переходящие ключи и задержались немного поболтать, пока грузчики таскали коробки с книгами и чемоданы. Кстати, грузчики переговаривались между собой по-русски, мрачные биндюжники с Брайтон-Бич.
Юз по-английски говорил плоховато, так что я еще и переводил туда-сюда. Не помню почему, но в разговоре выскочило имя Пабло Неруды. Я сказал, что это поэт с непомерно раздутой репутацией, Уолкотт согласился, а Юз неожиданно завитийствовал: «Фотографы, вахтеры, операторы подъемных кранов, соскребательницы гуано… Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои…». Нет, я предупредил, что не смогу передать, как это было смешно, и объяснить, отчего это было смешно! Оттого, что крепкий, подтянутый Юз вдруг сделался похожим на пухлого лауреата международной ленинской премии? Оттого, что что-то от блатного «раскидывания чернухи» было в бессмысленно напыщенных руладах (почти точных, между прочим, цитатах)? Ну что там я мог перевести, сходу и давясь от смеха, но – и это было само необъяснимое – Уолкотт все понимал и так же, как и я, хохотал до слез.
Грузчики между тем перекуривали и поглядывали на нас с тяжелым презрением. Видимо, мы в их глазах были расовыми предателями и наше веселье усугубляло их горечь необходимости прислуживать чернокожему.
Есть у Алешковского повесть «Маскировка». Выдумана она так: убогая советская действительность на одной шестой земной поверхности оказывается маскировкой, скрывающей подлинную, подземную, жизнь: «Как спутник американский пролетает над Старопорховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебинам, пионерчики маршируют, поют песни про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, конечно, танцульки – одним словом, видимость жизни заделывается, маскировка…» И т. д., и т. п. – полсотни страниц повести Алешковского, «бедной, жестокой, скотской и краткой», как жизнь проглоченного гоббсовым левиафаном человека. Как старомодный читатель, я не могу не сопереживать эту жизнь с пьяными, глупыми, добрыми, жалкими персонажами «Маскировки». До слез жалко Дуську, которой не досталось трескового филе.
Исключительность Юза – не просто в дивной энергии его поэтической речи, а в добродушии, душевной доброте, Доброте Души.
«Тот самый Юз»,
«Литературная газета», 7 ноября 1999 г.
Все идет Юзом
Лев Рубинштейн
Вспоминать о нем вообще всегда весело. А тут повод. Хороший повод, побольше бы таких. Существует такая премия, премия имени Пушкина, иначе называемая премией Фонда Альфреда Топфера. Это немецкая премия, присуждаемая русским писателям. Так иногда бывает. На днях в московском Доме журналиста ее вручили в тринадцатый раз. Вручили Юзу Алешковскому.
В домжуре играл камерный ансамбль, произносились – по-русски и по-немецки – речи. Цветы, президиум. Все как всегда. Но нет, что-то было не так, что-то странным образом сопротивлялось безнадежному в своей основе юбилейно-премиальному жанру. Почему-то не так мучительно хотелось выйти покурить, как это бывает обычно. Какая-то необременительность была во всем. Речи были не длинны и вполне уместны. В зале спонтанно возникали какие-то обаятельно-нелепые мизансцены. Отключался и включался микрофон. Кто-то путал какие-то бумажки. Чей-то мобильник безустанно играл «Синий платочек». Веселая чушь. Кто-то рядом со мной сказал: «Все идет Юзом».
Юз Алешковский из числа тех авторов 60-70-х годов, кто не то чтобы даже не хотел, а просто органически не мог дышать пыльным и кислым воздухом учреждения, называемого «советской литературой». Это не всегда был сознательный выбор. Просто кто-то мог, а кто-то не мог. Служащие этого учреждения, то есть советские писатели, подразделялись на тех, для кого цензура была как мать родная (их называли «соцреалистами»), и других (которые «прогрессивные», то есть будущие прорабы перестройки), которые вступали с цензурой в сложные и лукавые отношения, вследствие чего возникла особая эстетика, позже названная «эзоповской». Суть этой эстетики была в том, что искусство, в сущности, сводилось к искусству обманывать начальство. Попадались в этом деле подлинные виртуозы. Нехорошо это, по-моему, нечестно. Партия и правительство доверили тебе быть писателем, а ты вон чего делаешь. Ай, как некрасиво. Но это ладно, это тема отдельная, да и не актуальная уже теперь. Или пока еще не актуальная. Посмотрим. Несоветских писателей при разной, мягко говоря, степени одаренности объединяло одно: «Никакой цензуры для меня быть не может». Эту ситуацию каждый решал так, как понимал, и так, как умел. Каждый нарушитель конвенции нарушал ее по-своему. Кто-то окунался в поэтику абсурда, кто-то впадал в архаику, богоискательство, мистицизм, кто- то занялся выяснением отношений с языком.