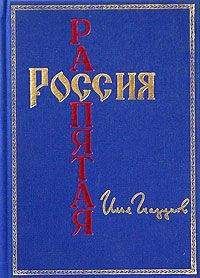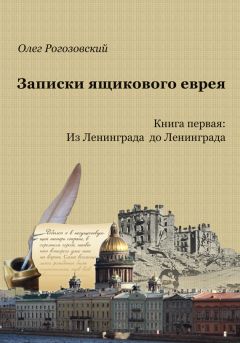Дома тепло. За стеной спят соседи. Хорошо, глядя в мертвый зеленый глаз приемника, отыскать в эфире и войти в могучий ураган духовных сражений гениального Бетховена, насладиться печалью просветленных слез великого Баха. Странно слышать аплодисменты большого далекого зала, смеющегося где-то над неуклюжим, сытым юмором конферансье. Чужды мне и ритмы негритянского дикого джаза, горящего радостно-животным жаром первобытной жизни…
* * *
Рядом с Академией на Второй линии Васильевского острова жила Марина Дранишникова, удивительно талантливое музыкальное явление. Пишу – явление, потому что в Марине переплелись для меня воедино чудо музыки, глубокий трагизм ее судьбы, созвучной и неуловимыми нитями связанной с миром музыкальных образов Скрябина и Рахманинова. Сколько раз, входя в мрачный колодец старого петербургского двора, мощенного булыжником, поднимаясь по стоптанным каменным ступеням бывшего наемного дома, я уже был захвачен могучим прибоем музыки – она вырывалась из узкого ущелья двора и рассыпалась в бездонной неяркой синеве ленинградской весны. Это означало, что Марина дома. Стройная, сочетающая в себе женственную хрупкость с напряженной силой, она отворяла незапертую дверь, из которой стремительно выскакивали многочисленные кошки. Ее лицо поражало: я, наверное, никогда не смогу его описать, потому что у нее, как мне казалось, целая тысяча лиц. Постоянными были лишь огромные серо-зелено-фиалковые глаза. Она жила одна в маленькой квартире с необычайно высоким, как во многих старых домах Ленинграда, потолком, темным от копоти. На стене висел большой портрет ее отца, знаменитого советского дирижера Владимира Дранишникова, и известной певицы Тугариновой – бабушки Марины, которая в свое время пела с Шаляпиным. Обои свисали по углам комнаты, в которой не было ничего, кроме рояля, продавленного дивана и огромного количества нот, партитур, запылившихся статуэток, свежих и давно увядших цветов. Она играет без конца. Я никогда не слышал лучшего исполнения Скрябина! Ее зрачки, как две планеты, то озарены пожаром, то затихают в темных провалах глаз. Часами слушаешь, забывая о времени. Марина своим побледневшим лицом и огромными глазами, обращенными словно внутрь себя, становится похожей на врублевскую «Музу». Она не просто исполнитель, она – творец, подчиняющий себе могучую музыкальную стихию. Кажется, что звуки, творимые ее сильными руками, обретают почти материальную силу, так что невольно рождается мысль о каком-то магическом действе. Двенадцатый этюд Скрябина – вихрь огневых звуков, окрыляющих душу. В восторге Скрябина есть и светлая радость, и нечто мучительно-жуткое, демоническое. Это тема непримиримой борьбы добра и зла – лучезарного света и беспросветного мрака. Бурный динамизм, напор чувств, свойственные гениальной душе Скрябина, делают его столь родственным Врубелю и Блоку. Он, как и они, весь устремлен к поэтическому постижению смысла человеческого бытия, скрытого мглой повседневности. Их объединяет творческая интуиция, безошибочное чувство времени, абсолютный слух Истории. Для их философии искусство – лишь средство постижения высших ценностей человеческого духа.
Уже в юности Марина виртуозно, по-мужски, исполняла сонаты Листа, «Полет Валькирий» Вагнера, «Пляску смерти» Сен-Санса – Листа, «Франческу да Римини» Чайковского и многое другое. Зная Марину долгие годы, радуясь ее растущему мастерству, я удивлялся не только тайне ее артистической натуры, но и тому, что эта блестящая пианистка и композитор не выступает с концертами перед широкой аудиторией – как много могла бы она сказать современнику, особенно молодежи, ищущей себя в, мире. Потрясенные и переполненные до краев щедростью ее таланта, мы просим ее перед уходом спеть хотя бы один романс Рахманинова. Марина, как всегда, отказывается, ссылаясь на то, что она не певица, но наконец сдается. Ее немного глухой голос, низкий и страстный, звучит необыкновенно. Тонущая в сумерках петербургская комната. Золотой пожар заката зажигает окна в узком колодце двора. И волшебная музыка, и страстные стихи Дм. Мережковского…
О, нет! Молю, не уходи!
Вся боль ничто перед разлукой,
Я слишком счастлив этой мукой.
Сильней прижми меня к груди,
Скажи: люблю…
Стало почти совсем темно. Мы уходим под впечатлением последнего романса великого Сергея Васильевича Рахманинова, наполнившего душу радостью надежды:
Спросили они, как забыть навсегда,
Что в мире юдольном есть горе, беда?
…Любите – оне отвечали…
Как святыню, храню я рукописную книгу XVII века, подаренную мне Федором Антоновичем Каликиным, моим наставником в горнем мире русской иконы. Я всегда буду помнить его… Небольшая, в черном кожаном переплете с медными застежками, она изумляет высоким мастерством графического искусства. Какие затейливые буквицы, как радостно и чудно цветут причудливые травы на орнаментальных заставках! Над буквами, напоминающими клинопись, располагаются неведомые мне знаки.
«Это древнерусские ноты – крюки, – пояснил Каликин. – Сейчас. всему миру известны великие художники Древней Руси, а наши Рублевы в музыке до сих пор в забвении. И фактически большинство наших музыкантов и композиторов их игнорирует, несмотря на то, что более ста лет некоторые наши ученые ведут работу по изучению великого наследия древнерусской музыки, имеющей многовековую историю». «Но неужели до сих пор никто не овладел тайной прочтения древнерусских нотных знаков?» – спросил я. «Пока нет такого человека в мире, который постиг бы эту мудрость. Только нотная система уже второй половины XVII века доступна нам, да и то дальше кабинета ученого не идет», – сказал Федор Антонович сокрушенно.
И в самом деле: ученые спорили и спорят о происхождении, начале и путях развития русской средневековой музыки. Древняя Русь создала величайшую культуру, выраженную в зодчестве, литературе и живописи. Что мы знаем о древнерусской музыке? А на Руси любили и знали толк в музыке. Например, былинного героя Василия Буслаева отдавали учить искусству пения: «Пение ему в наук пошло, а и нет таких певцов у нас, в целом славном Нове-городе супротив Василия Буслаева».
А Садко, подобно Орфею, чарующий игрою на гуслях людей, зверей и даже мир подводный!
Не имел он золотой казны,
А имел он гусельки яровчаты…
Один поэт рассказывал мне, как в конце 60-х годов на Псковщине подарил ему старец свои гусли. Дарил и плакал: «Оставался я последний гусляр, стар стал, света белого не вижу, умру скоро». Его слегка дрожащие старческие руки последний раз любовно коснулись струн: «Ах вы, гусли, гусли – гусельчики мои, заиграйте вы, гусли, при мне». Рассказывая мне это, молодой поэт смахнул слезу… Поэта звали Владимир Фирсов.
Приходится удивляться тому, как мы без жалостны, как преступно равнодушны к сокровищам русской народной культуры. Не бережем, не изучаем, не пропагандируем. До сих пор нет пластинок с записями наших древних былин. А они звучат словно гимны Ригведы. Какая родовая близость с ведическим миром славянских ариев!
Как и в живописи, в музыке русские создали свой мелодический стиль русского «знаменного» пения. В советские годы мало кто занимался этим. Мягко говоря, это не поощрялось! Зачем строителям светлого будущего знать эту устаревшую культуру церковников, когда нет Бога, а у пролетариев нет и Отечества?
Считаю нужным сказать об этом несколько слов. В древнейшем периоде на Руси существовали две самостоятельные нотации (системы нотных знаков) – кондакарная и знаменная. Первая из них была совершенно забыта, и даже ключ к ней, по мнению исследователей, потерян. Вторая же имела гораздо большую жизненную силу и, переживя татарское иго, послужила основой для знаменной нотации (крюковое письмо). Советский музыковед В. Беляев утверждает, что знаменная, или столповая, нотация является русским изобретением, «поскольку и по принципу ее строения и по значению ее знаков не сходна ни с греческой, ни с иными видами безлинейной нотации».
С XVII века началось активное проникновение на Русь западноевропейской культуры, что привело к столкновению двух ветвей культуры: – старорусской и новой, иноземной. В живописи это характеризуется явлением Ушакова, а в музыке появлением новой системы нотной записи, где напев излагался двумя нотациями – в две строки. Так называемые двоезнаменники дают ключ к пониманию древней нотации, как бы переводят «крюки».
Древняя Русь знала такое учреждение, как придворная капелла, члены которой назывались «государевыми дьяками». В XVI веке, например, пение входило в программу воспитания. В Москве существовала специальная школа пения Сильвестра Медведева. А известных новгородских «распевщиков» (певцов) Иван Грозный вызывал в Москву. Сам государь был композитором – он сочинял церковные песнопения.