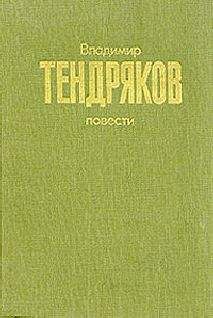Генка до сих пор жил победно – никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый – неловко, хоть провались!
– Можно мне? – Юлечка по школьной привычке подняла руку.
Генка повернулся к ней с надеждой и страхом – так нужна ему сейчас поддержка!
– Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед… Какая все это мелочная чушь!
Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее – ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал – зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя – он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!
– Я верю, верю – ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожале-ешь…– Блестящие глаза в упор. – Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но… Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к приме-ру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы – побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?… Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон – не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя – благородным! Ты так себе нравиться любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже – себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры… Ты светлячок, Гена, – красиво горишь, а греть не греешь.
Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу – усталое, безразличное.
– Это ты за то… отказался в Москву с тобой?…– с трудом выдавил Генка.
– Думай так. Мне уже все равно.
Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.
Он взял себя в руки, придушенно спросил:
– Ты это раньше… что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?
– Давно поняла.
– Так как же ты… в Москву?…
– За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь, – не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.
Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый… Светлячок, надо же!
Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:
– Игорь, давай ты.
– Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.
– Спасаешь, благодетель?
– Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.
– Режь, не увиливай.
– Н-да-а.
Игорь Проухов… С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядит, без вины оболган, заклеймен даже – светлячок, надо же… Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбрил Веру, возразил Юльке – а Игорь может, ему нетрудно, – то все сразу бы встало на свои места.
Попросить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:
– Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.
Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается…
Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:
– Не пожалеешь?… Само собой. Что ж…
За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.
Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:
– Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!
У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.
– Мне очень жаль, что так получилось. – Голос сухой, без выражения.
– Не сочтите за труд извиниться перед ней.
Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд… Смею надеяться… Позвольте рассчитывать…»
– Извиниться? За что?
Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.
– Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг – извинитесь!
– Мне жаль… Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.
– Разрешу себе заметить: разбитое корыто – довольно рискованное выражение.
– А разве она сейчас сама не призналась в этом?
– Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?
– Пользы?… Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин – представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» – луч света в темном царстве. Сорок лет одни и то же готовые формулы. Вся литература – набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература – вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обессмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем – любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владмировны… Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!
Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза за кустистыми пшеничными бровями.
– Но она еще была преподавателем и русского языка, научила тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.
– Научить правильно писать слово – и отучить его любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.
– Странный вы человек, Ольга Олеговна, – огорченно произнес Иван Игнатьевич. – Вдруг взорвались – готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.
– Вдруг?… Неужели для вас выступление Студёнцевой неожиданность?
– Да уж признаюсь: от любого и каждого ждал коленца, только не от нее.
– И вы считали, что у нас в школе все идеально, не нужно освобождаться от старых навыков?
– Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.
– Но тогда придется освободиться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.
– Освободиться от Зои Владимировны?… Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?
– Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?… За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.
Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.
– Мне кажется, вы собираетесь выправить накренившуюся лодку, черпая решетом воду, – сказал он с досадой.
– То есть?
– То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.
Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:
– Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.
Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Решников.
– Что ты хочешь этим сказать, Павел? – спросила Ольга Олеговна.