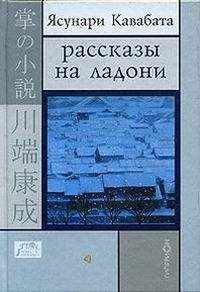Моё нынешнее путешествие не казалось мне долгим. Мне приходилось ездить из Идзу в Токио. Я жил тогда в горах Идзу. Путь мой лежал до Мисима, где я пересаживался на ветку Токай-до. И как-то само собой получалось, что каждый раз поездка приходилась на это отрадное время. В поезде оказывались девушки из школ в Нумадзу и Мисима. Мне приходилось ездить в Токио один или два раза в месяц и за полтора года я запомнил в лицо пару десятков этих школьниц. Мне вспомнилось время, когда и я сам ездил в школу на электричке. А теперь я более-менее знал, в каком вагоне окажется каждая из этих девушек.
И на сей раз я снова занял место во втором вагоне от хвоста. Когда девушка упомянула про полтора часа, она имела в виду путь от Нумадзу до Суруга. Она жила в Суруга. Тот, кто путешествовал дальше Хаконэ, знает это место. Суруга — это город, где из окон и двора большой ткацкой фабрики, расположенной на другом берегу реки, работницы машут поезду белыми платочками. Девушка была, наверное, дочерью главного инженера или кого-то в том же роде. Она всегда садилась во второй вагон от хвоста. Она здесь — самая красивая и живая.
Каждый день — полтора часа туда, полтора — обратно. Многовато для этого оленёнка. Устаёт. Сейчас зима. Значит она встаёт, когда ещё темно, возвращается, когда уже снова стемнело. Вот и этот поезд прибудет в Суруга в 17:18. Но для меня эти полтора часа слишком коротки. Слишком коротким кажется то время, когда я украдкой наблюдаю, как она достаёт из портфеля свои учебники, вяжет, перешучивается с подругой, которая уселась рядом с ней. И вот Готэмба — мне осталось смотреть на неё всего двадцать минут.
Вместе с ней я провожал взглядом её подружек, уходивших по мокрой от дождя платформе. Стоял декабрь, и потому в наступающих сумерках уже зажёгся влажно поблёскивавший фонарь. Весёлый лесной пожар в сокрытых теменью горах.
Когда моя девушка стала переговариваться со своей соклассницей, её лицо вдруг посерьёзнело. В марте она заканчивает школу. Будет поступать в женский колледж в Токио. Вот о чём они говорили.
Вот и Суруга. Здесь исчезнет и она. Ливень хлещет по окну, к которому я прильнул, провожая её. Как только она вышла на платформу, её окликнула подруга. Моя красавица подбежала к ней и крепко обняла.
— Я тебя ждала. Вообще-то я хотела уехать на двухчасовом поезде, но я так хотела увидеть тебя…
Две девушки стояли под одним зонтом, лица их почти соприкасались, они о чём-то оживлённо болтали. Раздался свисток. Та, другая, девушка впрыгнула в вагон, высунула голову из окна.
— Когда я перееду в Токио, ты можешь приходить ко мне в общежитие.
— Я не могу!
— Почему?
У обеих лица погрустнели. Девушка, похоже, работала на ткацкой фабрике. Наверное, она бросит её и уедет в Токио. А сейчас она прождала на вокзале почти три часа, чтобы повидаться с подругой.
— Увидимся в Токио!
— Да.
— До свидания!
— До свидания!
Спина фабричной девушки была исхлёстана дождём. Наверное, так же, как и спина будущей студентки.
[1927]
У дзэнского монаха из призамкового города голова была похожа на тыкву-горлянку. Он спросил у молодого самурая, который только что вошёл в храм через главные ворота.
— Когда вы шли сюда, видели пожар?
— Да, видел. Там была женщина — плакала навзрыд, причитала, что, мол, муж её на пожаре сгорел. Так жалко её было.
— Ха-ха-ха! Её плач — сплошное притворство.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду то, что на самом деле эта женщина рада-радешенька, что осталась без мужа. Полагаю, тут замешан другой мужчина. Она напоила мужа до полного бесчувствия, позвала любовника, тот проломил бедняге голову, а потом они подожгли дом. Полагаю, что так оно и было.
— Да это просто сплетни!
— Вовсе нет. Её плач…
— Что — её плач?
— Человеческое ухо ничем ведь не отличается от уха самого Будды…
— Гм… Если вы правы, то эта женщина — настоящее чудовище!
Самурай нахмурил брови и выбежал за ворота. Вскоре он вернулся.
— Учитель…
— Что скажете?
— Я совершил возмездие — одним ударом меча.
— Ха-ха-ха! Вот оно, значит, как…
— Да, я убил её. Но, выхватив меч, я вдруг усомнился в ваших словах. Женщина безутешно рыдала, обняв обгоревший труп. Увидев обнажённый меч, она протянула ко мне руки: «Вы ведь убьёте меня? Вы ведь отправите меня к моему мужу? Спасибо, спасибо вам!» Так и умерла — с улыбкой.
— Всё правильно, так и должно было быть.
— То есть как это?!
— Когда я наблюдал за ней, то были лживые слёзы. Когда мимо проходили вы, господин, она плакала по-настоящему.
— Хоть ты и монах, да, видно, любишь дурачить людей?
— Похоже, господин, ваши уши — не уши Будды.
— Из-за тебя я осквернил свой меч! Что теперь прикажешь мне делать?
— Позвольте, я смою с него скверну. Прошу вас, достаньте меч из ножен.
— Для того, чтобы снять с плеч твою пустую тыкву, монах?
— Этим вы ещё больше оскверните свой меч.
— Раз так…
— Не спешите, дайте его мне.
Самурай неохотно протянул меч монаху. Тот взял его и вдруг — «Хэ!» — изо всех сил метнул его в сторону стоявшего неподалёку надгробия. Просвистев в воздухе, меч вонзился в него. Из камня закапала алая кровь.
— Что это?!
— Это кровь убитого мужа.
— Кровь мужа?
— Это кровь его жены.
— Что?! Монах, ты, видно, решил доконать меня своим колдовством!
— Нет тут никакого колдовства. Под этим надгробием испокон веков хоронил своих мертвецов род того мужчины, что сгорел сегодня в пожаре.
Самурая забила дрожь.
— Учитель! Этот славный меч испокон веков передавался в нашем роду от отца к сыну, поэтому…
— Не лучше ли будет извлечь его, да?
Самурай кивнул и взялся за рукоятку. Но когда он потянул меч к себе, надгробный камень покачнулся и рухнул на землю. Остриё клинка со звоном обломилось, а рана на теле камня на глазах затянулась зелёным мхом — не осталось и царапины.
— А…а! Чудеса!
Ноги самурая подкосились, он где стоял, там и сел, глядя на сломанный меч.
А монах лёгкой походкой направился к храму, бросив мимоходом:
— Пора помолиться.
[1927]
Перевод Сергея Смолякова
Он страстно любил свою жену и думал, что смерть её в расцвете лет — это наказание, ниспосланное ему небом за чрезмерную страсть к одной-единственной женщине. Он был уверен, что умерла она из-за его безумной любви — это была единственная причина смерти, ничего другого просто не приходило в голову.
С тех пор, как умерла жена, он стал сторониться женщин и отказался даже от женской прислуги — стряпали и убирали в доме мужчины. Нельзя сказать, что все женщины стали ему ненавистны, нет: просто они напоминали ему покойную жену. Ведь любая женщина, стоя у плиты, так же пахнет жареной рыбой, как когда-то пахло и от его жены. Да, смерть её — это тяжёлое наказание за чрезмерную любовь, — окончательно уверившись в этом, он примирился и с тем, что остаток своей жизни должен будет прожить в одиночестве.
Но одна женщина всё-таки жила в его доме, и с этим ничего нельзя было поделать. Никто в целом свете не был так похож на его покойную жену, как она.
Его дочери недавно исполнилось пятнадцать лет, она только что начала посещать женскую школу.
Однажды глубокой ночью он увидел, как в её комнате зажёгся свет. Он чуть-чуть раздвинул створки перегородки и заглянул к ней. Сидя на полу скрестив ноги и опустив голову, девушка что-то резала маленькими ножницами. На следующее утро, как только дочь ушла в школу, он отыскал эти ножницы и вздрогнул от холода, прикоснувшись к острым лезвиям.
На следующую ночь в её комнате снова зажёгся свет, и он опять приник глазами к щели в раздвижной перегородке. Дочь сгребла с пола белое покрывало, взяла свёрток и вышла из комнаты. Послышался звук льющейся из крана воды. Через некоторое время она внесла жаровню, раздула тлеющие угли и накрыла их покрывалом. С отрешённым видом села на пол, опустила голову и заплакала. Наплакавшись, утёрла слёзы и, всхлипывая, стала стричь ногти — тут же, на покрывале. Потом, когда дочь сворачивала и убирала его, обрезки ногтей, наверное, упали в жаровню — его чуть не вырвало от запаха палёной роговицы.
Ему приснился сон: покойная жена рассказала дочери о его ночном шпионстве.
Дочь перестала смотреть ему в глаза. Он понял, что не любит её. Когда-нибудь из-за любви к этой девушке другой мужчина будет терпеть такие же муки, примет ту же кару — он содрогался при одной мысли об этом.
Наконец, однажды ночью дочь нацелила нож на его горло. Он знал, что это рано или поздно случится, и примирился с мыслью, что и это — наказание за чрезмерную, невыносимую любовь к жене. Поэтому он тихо закрыл глаза. Уже твёрдо зная, что дочь убьёт врага своей матери, он спокойно ждал прикосновения холодного лезвия.