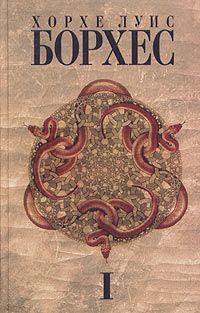Еще один распространенный способ оскорбить — хулительное слово “собака”. Из ночи сто сорок шестой книги сказок “Тысячи и одной ночи” любопытствующие могут узнать, что сын Адама запер в крепкий сундук сына льва и так его укорил: “Сама судьба тебя повергла, и не подняться тебе хитростью, собака пустыни”.
Кроме того, существует даже некая условная азбука злословия. Обращение “сеньор” столь часто — случайно либо по ошибке — опускаемое в устном обращении, может выглядеть как насмешка в напечатанном виде. Поминание докторской степени не менее уничижительно. Написать о сонетах, опубликованных доктором Лугонесом, — значит навеки заклеймить их, изничтожив каждую метафору. При первом же упоминании о докторе полубог умирает, и остается лишь захудалый аргентинский кабальеро, который носит бумажные манишки, бреется через день и может скончаться от удушья.
Остается известная и неизбывная человеческая ничтожность. Правда, сонеты, звучащие музыкой, тоже остаются. (Рассказывают, что некий итальянец, пытаясь подтрунивать над Гете, выпустил статью, в которой неустанно называл его il signore Wolfgang. На деле статья вышла лестной, ибо из нее явствовало, что автор не в состоянии найти никаких более веских доводов для насмешек над Гете.) Опубликовать сонет, выпустить статью. Речь наша изобилует этими подходящими случаю неуклюжими выражениями, а в любых словопрениях им просто несть числа. Конечно, легко впасть в искушение и сказать, что некий литератор изрыгнул книгу, или состряпал ее, или прохрюкал. Однако куда лучше употребить глагол, который слышишь в конторе или в лавке — выполнить, дать ход, пустить в оборот. Эти сухие слова, соединившись с восторженными эпитетами, ввергают противника в пучину унижения. Об одном аукционисте, который, несмотря на свою профессию, увлекался декламацией, кто-то неизбежно должен был сообщить, что, читая “Божественную комедию”, он “пустил Данте с молотка". Эпиграмма эта не потрясает своим остроумием, но механизм ее весьма типичен. Здесь мы, как и в любой эпиграмме, попадаем в обычный капкан ложных доказательств. Выражение “пустить с молотка” не оставляет и тени сомнения в том, что обвиняемый — неисправимый гнусный аукционист (и таковым останется навеки), а все его дантовские притязания — полнейшая чушь. Судьи воспринимают это утверждение безоговорочно именно потому, что никто ничего не оговаривает. Если изложить обвинение подробнее, в его справедливости можно было бы усомниться.
Во-первых, декламировать и вести торги — весьма близкие виды деятельности. Во-вторых, древнее искусство декламации могло стоять у истоков профессии аукциониста — и то и другое требует ораторских способностей.
Один из приемов сатиры (которым не брезгуют ни Маседонио Фернандес, ни Кеведо, ни Джордж Бернард Шоу) — полная инверсия смысла. Если воспользоваться этим знаменитым рецептом, врача неизбежно обвинят в том, что он сеет болезни и смерть, судью — в воровстве, палач будет продлевать срок человеческой жизни, приключенческие романы — навевать скуку и ввергать в летаргию, вечные жиды — валяться в параличе, портные — проповедовать нудизм, а тигр и каннибал — лакомиться листочками ревеня. Разновидность этого приема — невинный каламбур, который притворно восхищается тем, что высмеивает. Например: “Славная походная кровать, под которой генерал выиграл сражение”. Или: “Очарователен последний фильм прекрасного режиссера Рене Клера. Когда нас разбудили…”
Еще один распространенный прием — внезапная подмена. Verbi gratia[165]: “Юноша, жрец красоты, ум, просвещенный эллинской мудростью, утонченная натура, от природы наделенная изяществом (слона)”. Или эта андалусская народная песенка, которая вмиг переходит от сообщения к атаке:
Из пяти дощечек
Сбит мой табурет.
Хочешь им тебе я
Перебью хребет?
Повторюсь, все это — чисто формальные приемы игры, непременно основанной на недоразумении и путаных доказательствах. Произносить настоящую обвинительную речь и при этом расточать шутовские хвалы, лживо соболезновать, вероломно превозносить и снисходительно презирать — вещи не то чтобы несовместимые, но столь различные, что никому до сего времени не удавалось сочетать их.
Обсудим известные примеры. Что делает Груссак, стремясь уничтожить Рикардо Рохаса? Приведу его слова, которыми упивался весь литературный Буэнос-Айрес. “Так, едва лишь довелось мне с прискорбием прочесть два-три, писанных витиеватой прозой отрывка из некоего пухлого собрания страниц, которому публично рукоплескали те, кто едва удосужился открыть его, я счел себя вправе прервать чтение, ограничившись оглавлением и указателем этой грандиозной эпопеи, повествующей о том, чего не бывает в природе. Я имею в виду первую совершенно неудобоваримую часть этого гроссбуха, занимающую три тома из четырех — бормотание индейцев или метисов…”
В своей милой ядовитости Груссак верен вожделенным идеалам сатирической игры. Он притворяется, будто огорчен просчетами оппонента (довелось с прискорбием прочесть), словно невзначай дает волю раздражению (сначала — пухлое собрание страниц, затем — гроссбух), обращает похвальные слова в насмешку (грандиозная эпопея), а затем полностью открывает свои карты. Безупречный синтаксис, безукоризненная форма, чего не скажешь о содержании.
Осуждать книгу за размеры, намекая на то, что этот орешек никому не по зубам, оттого лишь, что сам критик совершенно безразличен к тому вздору, что несут какие-то презренные мулаты — ответ, достойный болтуна, а не Груссака.
Приведу еще одну известную тираду того же автора:
“Нас чрезвычайно опечалит, если продажа опуса доктора Пиньона окажется препятствием для его распространения и единственными читателями этого зрелого плода годового дипломатического досуга будут наборщики типографии. Даст Бог, этого не случится, мы же сделаем все, что в нашей власти, и не допустим, чтобы сие творение постигла столь мрачная участь”. Снова — показное сочувствие, снова — синтаксические изыски. И снова — в который раз — поразительная банальность самой критики: смеяться над тем, как медленно создавалось произведение и как мало читателей оно может собрать.
В оправдание этой банальности можно сослаться на уходящие глубоко во тьму веков корни сатиры. Если верить самым свежим и надежным изысканиям, сатира ведет свое начало от магических заклинаний гнева, а не от логических умозаключений. Это остаток того древнего неправдоподобного состояния, когда раны, нанесенные имени, мучили его владельца. У имени ангела Сатанаила, строптивого первенца Господа, которого чтили богомилы, усекли частицу “ил”, которая утверждала его нимб, его славу и дар предвидения. Ныне его обиталище — огонь, а гость его — гнев Всевышнего. С Авраамом, как рассказывают талмудисты, все случилось ровно наоборот: семя прародителя Аврама было бесплодным, пока не появилась в его имени вторая буква “а”, что сделало его способным к продолжению рода.
Свифт, человек угрюмый от природы, задумал в своей хронике путешествий капитана Лемюэля Гулливера очернить род человеческий. Первое и второе путешествия — в крошечную Лилипутию и в фантасмагорическую Бробдингнаг — высоко ценит Лесли Стивен. Это — антропометрический сон, никак не задевающий сложность человеческой природы, ее огонь и алгебру. Третье путешествие, самое занимательное, — насмешка над экспериментальной наукой с помощью вышеуказанного приема — инверсии: безумные свифтовские правительства хотят разводить бесшерстных овец, делать порох изо льда, умягчать мрамор для производства подушек, разбивать на тонкие пластинки пламя, а также использовать во благо питательную часть tej`khi. (Эта часть книги содержит также весьма сильные страницы о неудобствах старости.) В четвертом, последнем, путешествии Свифт стремится доказать, что животные достойнее людей. Перед нами республика добродетельных говорящих лошадей, склонных к моногамии, можно сказать, человекоподобных, и людей-пролетариев, которые живут стадами, копошатся в земле, хватаются за коровье вымя, чтобы украсть молока, испражняются друг на друга, питаются падалью и издают зловоние. Фабула, как можно заметить, противоречит замыслу.
Все прочее — литература, синтаксис. В заключение Свифт пишет: “Меня ничуть не раздражает вид стряпчего, карманника, полковника, глупца, лорда, шулера, политика, подлеца”. Смысл некоторых слов в этом милом перечне искажается от близости заразных соседей.
Два последних примера. Сначала замечательная пародия на оскорбление, которую, говорят, сочинил на ходу доктор Джонсон: “Ваша супруга, сэр, прикрываясь тем, что служит в борделе, продает контрабандные товары”. Второй пример — самое блестящее из известных мне оскорблений (случай тем более удивительный, если принять во внимание, что этот пассаж — единственное, что связывает его автора с литературой): “Боги не допустили, чтобы Сантос Чокано осквернил эшафот, приняв на нем смерть. А потому он жив, и до сих пор насилует бесчестье”. Осквернить эшафот. Изнасиловать бесчестье.