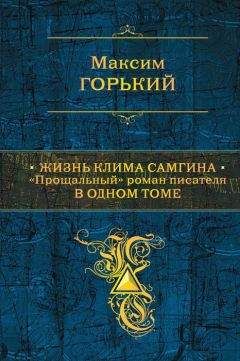– Оставьте меня, – попросил Самгин.
– Правильно, – согласился фельдшер. – Вам нужен покой. Горничную я послал за вашей супругой.
Он ушел, и комната налилась тишиной. У стены, на курительном столике горела свеча, освещая портрет Щедрина в пледе; суровое бородатое лицо сердито морщилось, двигались брови, да и вое, все вещи в комнате бесшумно двигались, качались. Самгин чувствовал себя так, как будто он быстро бежит, а в нем все плещется, как вода в сосуде, – плещется и, толкая изнутри, еще больше раскачивает его.
«Сомова должна была выстрелить в рябого, – соображал он. – Страшно этот, мохнатый, позвал бога, не докричавшись до людей. А рябой мог убить меня».
На диване было неудобно, жестко, болел бок, ныли кости плеча. Самгин решил перебраться в спальню, осторожно попробовал встать, – резкая боль рванула плечо, ноги подогнулись. Держась за косяк двери, он подождал, пока боль притихла, прошел в спальню, посмотрел в зеркало: левая щека отвратительно опухла, прикрыв глаз, лицо казалось пьяным и, потеряв какую-то свою черту, стало обидно похоже на лицо регистратора в окружном суде, человека, которого часто одолевали флюсы.
Пришла Настя, сказала:
– Барыня будут завтра утром. – И другим голосом добавила:
– Ой, как изуродовали вас...
И, должно быть, желая утешить, прибавила:
– Всех начали бить.
– Ванну сделайте, – сердито приказал Самгин.
Через час, сидя в теплой, ласковой воде, он вспоминал: кричала Любаша или нет? Но вспомнил только, что она разбила стекло в окне зеленого дома. Вероятно, люди из этого дома и помогли ей.
«Если б она выстрелила в рябого, – ничего бы не было. Рябой, конечно, не хулиган, не вор, а – мститель».
Мелкие мысли налетели, точно стая галок.
На другой день он проснулся рано и долго лежал в постели, куря папиросы, мечтая о поездке за границу. Боль уже не так сильна, может быть, потому, что привычна, а тишина в кухне и на улице непривычна, беспокоит. Но скоро ее начали раскачивать толчки с улицы в розовые стекла окон, и за каждым толчком следовал глухой, мощный гул, не похожий на гром. Можно было подумать, что на небо, вместо облаков, туго натянули кожу и по коже бьют, как в барабан, огромнейшим кулаком.
«Это – очень большие -пушки», – соображал Самгин и протестующе, вполголоса сказал: – Это – гадость!
Он соскочил на пол, едва не закричав от боли, начал одеваться, но снова лег, закутался до подбородка.
«Это безумие и трусость – стрелять из пушек, разрушать дома, город. Сотни тысяч людей не ответственны за действия десятков».
Гневные мысли возбуждали в нем странную бодрость, и бодрость удивляла его. Думать мешали выстрелы, боль в плече и боку, хотелось есть. Он позвонил Насте несколько раз, прежде чем она сердито крикнула из столовой:
– Да – подаю же!
Когда он вышел в столовую, Настя резала хлеб на доске буфета с такой яростью, как однажды Анфимьевна – курицу: нож был тупой, курица, не желая умирать, хрипела, билась.
«А, господь с тобой», – крикнула Анфимьевна и отрубила курице голову.
– Где стреляют? – спросил Самгин.
– На Пресне.
Ответила Настя крикливо, лицо у нее было опухшее, глаза красные.
– Там людей убивают, а они – улицу метут... Как перед праздником, все одно, – сказала она, уходя и громко топая каблуками,
Самгин езде в спальне слышал какой-то скрежет, – теперь, взглянув в окно, он увидал, что фельдшер Винокуров, повязав уши синим шарфом, чистит железным скребком панель, а мальчик в фуражке гимназиста сметает снег метлою в кучки; влево от них, ближе к баррикаде, работает еще кто-то. Работали так, как будто им не слышно охающих выстрелов. Но вот выстрелы прекратились, а скрежет на улице стал слышнее, и сильнее заныли кости плеча.
«Неужели – всё?»
Часы в столовой показывали полдень. Бухнуло еще два раза, но не так мощно и где-то в другом месте.
«Винокуров и вообще эти... свиньи, конечно, укажут на соседей, которые... у которых грелись рабочие».
Точно резиновый мяч, брошенный в ручей, в памяти плыл, вращаясь, клубок спутанных мыслей и слов.
«Пули щелкают, как ложкой по лбу», – говорил Лаврушка. «Не в этот, так в другой раз», – обещал Яков, а Любаша утверждала: «Мы победим».
У ворот своего дома стоял бывший чиновник казенной палаты Ивков, тайный ростовщик и сутяга, – стоял и смотрел в небо, как бы нюхая воздух. Ворон и галок в небе сегодня значительно больше. Ивков, указывая пальцем на баррикаду, кричит что-то и смеется, – кричит он штабс-капитану Затёсову, который наблюдает, как дворник его, сутулый старичок, прилаживает к забору оторванную доску.
«Уверены, что все уже кончено».
Пушки молчали, но тишина казалась подозрительной, вызывала такое дергающее ощущение, точно назревал нарыв. И было непривычно, что в кухне тихо.
Самгин почти обрадовался, когда под вечер пришла румяная, оживленная Варвара. Она умеренно и не обидно улыбнулась, посмотрев на его лицо, и, торопливо расспрашивая, перекрестилась.
– О боже мой... Вот ужас! Ты посылал спросить, как чувствует себя Сомова?
– Некого посылать.
– Попросил бы фельдшера. Ну, все равно. Я сама. Ах, милый Клим... какие дни!
Вела она себя так, как будто между ними не было ссоры, и даже приласкалась к нему, нежно и порывисто, но тотчас вскочила и, быстро расхаживая по комнате, заглядывая во все углы, брезгливо морщась, забормотала:
– Боже, какой беспорядок, пыль, грязь! Впрочем, у Ряхиных – тоже...
Покраснев, щупая пальцами пуговицы кофты и некрасиво широко раскрыв зеленые глаза, она подошла к Самгину.
– У них – чорт знает что! Все, вдруг – до того распоясались, одичали – ужас! Тебе известно, что я не сентиментальна, и эта... эта...
Передохнув, понизив голос, договорила:
– Революция мне чужда, но они – слишком! Ведь еще неизвестно, на чьей стороне сила, а они уже кричат: бить, расстреливать, в каторгу! Такие, знаешь... мстители! А этот Стратонов – нахал, грубиян, совершенно невозможная фигура! Бык...
Она вспотела от возбуждения, бросилась на диван и, обмахивая лицо платком, закрыла глаза. Пошловатость ее слов Самгин понимал, в искренность ее возмущения не верил, но слушал внимательно.
– А этот Прейс – помнишь, маленький еврей?
– Да, да, – сказал Клим.
– Ах, эти евреи! – грозя пальцем, воскликнула она. – Вот кому я не верю! Мстительный народ; совершенно не могут забыть о погромах! Между прочим, он все-таки замечательно страстно говорит, этот Прейс, отличный оратор! «Мы, говорит, должны быть благодарны власти за то, что она штыками охраняет нас от ярости народной», – понимаешь? Потом, еще Тагильский, товарищ прокурора, кажется, циник и, должно быть, венерический больной, – страшно надушен, но все-таки пахнет йодоформом... «Нечто среднее между клоуном и палачом», – сказала про него сестра Ряхина, младшая, дурнушка такая...
Порывшись в кармане, она достала маленькую книжку.
– Вот, я даже записала два, три его парадокса, например: «Торжество социальной справедливости будет началом духовной смерти людей». Как тебе нравится? Или:
«Начало и конец жизни – в личности, а так как личность неповторима, история – не повторяется». Тебе скучно? – вдруг спросила она.
– Нет, напротив, – ответил Клим.
Но она уже снова забегала по комнате:
– Ужасающе запущено все! Бедная Анфимьевна! Все-таки умерла. Хотя это – лучше для нее. Она такая дряхлая стала. И упрямая. Было бы тяжело держать ее дома, а отправлять в больницу – неловко. Пойду взглянуть на нее.
Ушла. Несмотря на боль в плече, Самгин тряхнул головой, точно вытряхивая из нее пыль.
«Нет, она – невозможна! Не могу я с ней».
Варвара возвратилась через несколько минут, бледная, с болезненной гримасой на длинном лице.
– Как ее объели крысы, ух! – сказала она, опускаясь на диван. – Ты – видел? Ты – посмотри! Ужас! Вздрогнув, она затрясла головой.
– На улице что-то такое кричат... И, подвинувшись к Самгину, положила руку на колено его:
– Знаешь, я хочу съездить за границу. Я так устала, Клим, так устала!
– Неплохая мысль, – сказал он, прислушиваясь и думая: «Какая она все-таки жалкая! И – лживая. Нежничает, потому что за границу едет, наверное, с любовником».
– Я уже не молода, – созналась Варвара, вздохнув.
– Подожди-ка!
Самгин встал, подошел к окну – по улице шли, вразброд, солдаты; передний что-то кричал, размахивая ружьем. Самгин вслушался – и понял:
– Закрывай двери, ворота, форточки, эй, вы! Закрывай – стрелять будем!
Клим отодвинулся за косяк. Солдат было человек двадцать; среди них шли тесной группой пожарные, трое – черные, в касках, человек десять серых – в фуражках, с топорами за поясом. Ехала зеленая телега, мотали головами толстые лошади.
– Куда они идут? – шопотом спросила Варвара, прижимаясь к Самгину; он посторонился, глядя, как пожарные, сняв с телеги лома, пошли на баррикаду. Застучали частые удары, затрещало, заскрипело дерево.