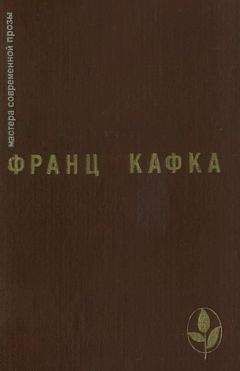И таким было все Твое воспитание, Мне кажется, у Тебя есть талант воспитателя; человеку Твоего склада Твое воспитание наверняка пошло бы на пользу; он понимал бы разумность того, что Ты говорил бы ему, ни о чем больше не беспокоился бы и поступал бы в соответствии с этим. Для меня же в детстве все, что Ты выкрикивал мне, было прямо-таки небесной заповедью, я никогда не забывал этого, это оставалось для меня важнейшим мерилом оценки мира, прежде всего оценки Тебя самого, и вот тут Ты оказывался совершенно несостоятельным. Так как в детстве я встречался с Тобой главным образом во время еды, Твои уроки были большей частью уроками хороших манер за столом. Все, что ставится на стол, должно быть съедено, о качестве еды говорить не полагается, — однако Ты сам часто находил ее несъедобной, называл «жратвой», говорил, что «скотина» (кухарка) испоганила ее. Поскольку аппетит у Тебя был прекрасный и Ты любил все есть быстро, горячим, большими кусками, то и ребенок должен был торопиться, за столом царила угрюмая тишина, прерываемая наставлениями: «Сначала съешь, потом говори», «Быстрей, быстрей, быстрей», «Видишь, я давно уже съел». Кости грызть нельзя, а Тебе — можно. Чавкать нельзя, Тебе — можно. Главное, чтобы хлеб отрезали, а не отламывали; а то, что Ты отрезал его измазанным в соусе ножом, было неважно. Надо следить, чтобы на пол не падали крошки, — под Тобой же их оказывалось больше всего. За столом следует заниматься только едой — Ты же чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой в ушах. Отец, пойми меня, пожалуйста, правильно, само по себе все это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что Ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня. Тем самым мир делился для меня на три части: один мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые придуманы только для меня и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью соблюсти; в другом мире, бесконечно от меня далеком, жил Ты, повелевая, приказывая, негодуя по поводу того, что Твои приказы не выполняются; и, наконец, третий мир, где жили остальные люди, счастливые и свободные от приказов и повиновения. Я все время испытывал стыд: мне было стыдно и тогда, когда я выполнял Твои приказы, ибо они касались только меня; мне было стыдно и тогда, когда я упрямился — ибо как смел я упрямиться по отношению к Тебе! — или был не в состоянии выполнить их, потому что не обладал, например, ни Твоей силой, ни Твоим аппетитом, ни Твоей ловкостью, а Ты требовал всего этого от меня как чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, вызывало у меня наибольший стыд. Так складывались не мысли, но чувства ребенка.
Мое тогдашнее положение станет, может быть, понятнее, если я сравню его с положением Феликса. Ты и к нему относишься так же, более того, Ты даже применяешь к нему особенно ужасное средство воспитания: если во время еды он, по Твоему мнению, делает что-то неопрятно, Ты не довольствуешься тем, что говоришь, как мне: «Ну и свинья же ты», а еще добавляешь: «Сразу видно, что из Германнов», Или: «Точь-в-точь как твой отец». Ну, возможно — более точного слова, чем «возможно», тут не подберешь, — это и в самом деле не причинит Феликсу большого вреда, ибо хоть как дедушка Ты для него и много значишь, однако не всё на свете, как для меня; кроме того, у Феликса спокойный, в известной мере уже мужской характер: громовым голосом его, вероятно, можно смутить, но не подчинить на длительное время; к тому же он бывает с Тобой сравнительно редко, да и находится он под другими влияниями. Ты для него, скорее, соединение неких милых и забавных черт, из которых можно выбирать те, что хочется. Для меня Ты не был забавным, я не мог выбирать из Твоих особенностей, я должен был принимать все.
Притом я не имел возможности высказаться, так как Ты никогда не умеешь спокойно говорить о чем-нибудь, с чем Ты не согласен или что исходит не от Тебя, — Твой властный темперамент не терпит этого. В последние годы Ты объясняешь это неврозом сердца; я не знаю, был ли Ты когда-нибудь иным, невроз сердца у Тебя лишь средство для более полного осуществления своего господства, так как мысль о нем должна подавить у окружающих последние возражения. Это, разумеется, не упрек, а только констатация факта. Возьмем, к примеру, Оттлу. «С ней же невозможно разговаривать, она сразу сбивает тебя с толку», — говоришь Ты обычно, но в действительности она вовсе не хочет сбить Тебя с толку; Ты путаешь дело и человека: дело сбивает Тебя с толку, и Ты немедленно решаешь его, не выслушав человека; все, что удается потом сказать, еще больше раздражает, но никогда не переубеждает Тебя. Затем от Тебя можно лишь услышать: «Поступай как знаешь. По мне, ты вольна делать что хочешь. Ты совершеннолетняя. Разве я могу тебе советовать?» И все это с неприятной, хриплой нотой гнева и полнейшего осуждения, от которой я теперь только потому дрожу меньше, чем в детстве, что безграничное чувство детской вины частично заменилось пониманием нашей обоюдной беспомощности.
Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности, совершенно естественное последствие: я разучился разговаривать. Я бы, конечно, и без того не стал великим оратором, однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: «Не возражать!»— и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных времен. Когда речь идет о Твоих собственных делах, Ты отличный оратор, а меня ты наделил запинающейся, заикающейся манерой разговаривать, но и это было для Тебя слишком, в конце концов я замолчал, сперва, возможно, из упрямства, а затем потому, что при Тебе я не мог ни думать, ни говорить. И так как Ты был моим главным воспитателем, это сказывалось в дальнейшем во всей моей жизни. Вообще же Ты странным образом заблуждаешься, если думаешь, что я никогда не подчинялся Тебе. «Вечно все контра»— вовсе не было моим жизненным принципом по отношению к Тебе, как Ты думаешь и в чем упрекаешь меня. Напротив, если бы я меньше слушался Тебя, Ты наверняка больше был бы мною доволен. Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я — такой, какой я есть (отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни), — я результат Твоего воспитания и моей покорности. То, что результат этот тем не менее Тебя оскорбляет, что непроизвольно Ты даже отказываешься признать его результатом Твоего воспитания, объясняется именно тем, что Твоя рука и мои данные так чужды друг другу. Ты говорил: «Не возражать!»— и хотел этим заставить замолчать во мне неприятные Тебе силы сопротивления, но Твое воздействие было для меня слишком сильным, я был слишком послушным, я полностью умолкал, прятался от Тебя и отваживался пошевелиться лишь тогда, когда оказывался так далеко от Тебя, что Твое могущество не могло меня достичь, во всяком случае непосредственно. Но вот Ты снова стоял передо мною, и Тебе все опять казалось «контра», в то время как то было лишь естественным следствием Твоей силы и моей слабости.
Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми ораторскими средствами воспитания были: брань, угрозы, ирония, злой смех и — как ни странно — самооплакивание.
Я не помню, чтобы ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности, у Тебя было столько других средств, к тому же в разговорах дома и особенно в магазине ругательства в моем присутствии сыпались и на других в таком количестве, что подростком я бывал иногда почти оглушен ими, у меня не было никаких оснований не относить их к себе, так как люди, которых Ты ругал, были, конечно, не хуже меня и Ты, конечно, бывал ими не более недоволен, чем мною. И здесь тоже опять выступала на свет Твоя загадочная невиновность и непогрешимость, Ты ругался без всякого стеснения, других же Ты порицал за ругань и запрещал ее.
Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда Ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, этого не знал), но моим представлениям о Твоем могуществе почти соответствовала вера в то, что Ты в силах сделать и это. Страшно было и тогда, когда Ты с криком бегал вокруг стола, чтобы схватить кого-нибудь, — было ясно, что Ты не собирался никого хватать, но притворялся, что хочешь, и мать в конце концов для вида спасала кого-нибудь. И ребенку казалось, что благодаря Твоей милости ему сохранена жизнь, и он считал ее незаслуженным подарком от Тебя. Такого же свойства были и предрекания последствий непослушания. Когда я начинал делать что-то, что Тебе не нравилось, и ты грозил мне неудачей, благоговение перед Твоим мнением было столь велико, что неудача, пусть даже впоследствии, была неизбежной. Я терял уверенность в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности; постепенно Ты в известном смысле действительно оказывался правым. Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в большой степени, потому что власть Твоя надо мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал вход.