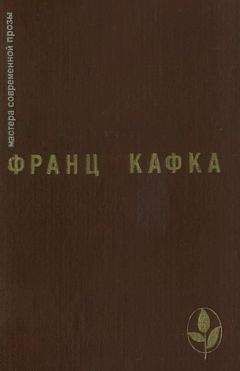Кроме того, из множества случаев, когда я, по Твоему мнению, явно заслуживал порки, но по Твоей милости был пощажен, снова рождалось чувство большой вины. Со всех сторон я оказывался кругом виноват перед Тобой.
С давних пор Ты упрекал меня (и с глазу на глаз, и при посторонних, — унизительность последнего обстоятельства Ты никогда не принимал во внимание, дела Твоих детей всегда обсуждались при всех), что благодаря Твоему труду я жил, не испытывая никаких лишений, в покое, тепле, изобилии. Я вспоминаю Твои замечания, которые оставили в моем мозгу настоящие борозды: «А я семи лет от роду ходил с тележкой по деревням», «Мы все спали в одной комнате», «Мы были счастливы, когда имели картошку», «Из-за нехватки зимней одежды у меня годами были на ногах открытые раны», «Я был мальчиком, когда меня отдали в Пизек в лавку», «Из дома я ничего не получал, даже во время военной службы, я сам посылал деньги домой», «И все-таки, и все-таки — отец для меня всегда был отцом. Кто теперь так относится к отцам? Что знают дети? Они же ничего не испытали! Разве теперешний ребенок это поймет?». При других условиях такие рассказы могли бы стать отличным средством воспитания, могли бы придать бодрости и сил, чтобы выдержать такие же беды и лишения, какие перенес отец. Но Ты вовсе не хотел этого, благодаря Твоим усилиям положение семьи изменилось, возможности отличиться таким же образом, как Ты, отпали. Такую возможность можно было бы создать лишь насильственно, переворотом, нужно было бы вырваться из дома (при условии, что нашлось бы достаточно решимости и силы для этого и мать со своей стороны не противодействовала бы своими средствами). Но этого Ты вовсе не хотел, Ты назвал бы это неблагодарностью, сумасбродством, непослушанием, предательством, сумасшествием. В то время как, с одной стороны, Ты, приводя примеры, рассказывая, стыдя, побуждал к этому, Ты, с другой стороны, строжайше это запрещал. Иначе ведь Тебя должна была бы восхитить затея Оттлы в Цюрау[149], если отвлечься от сопутствующих обстоятельств, Она стремилась в деревню, из которой Ты родом, она хотела работы и лишений — того же, что перенес Ты, она не хотела пользоваться плодами Твоих трудов, хотела быть, как и Ты, независимой от своего отца. Разве это такие уж страшные намерения? Такие далекие от Твоих примеров и поучений? Пусть намерения Оттлы в конечном счете не увенчались успехом, она пыталась осуществить их, может быть, немножко нелепо, слишком шумно, она не в достаточной мере посчиталась со своими родителями. Но разве в том была только ее вина? Не повинны ли были и обстоятельства, прежде всего то, что Ты был так отчужден от нее? Разве в магазине она была Тебе менее чуждой (как Ты потом сам хотел себя уговорить), чем позднее в Цюрау? И разве не в Твоей власти было (при условии, если б Ты мог побороть себя) подбодрить ее, дать совет, присмотреть за ней, а может, даже просто проявить терпение, чтобы эта затея обернулась благом?
После таких уроков Ты обычно горько шутил, что нам слишком хорошо живется. Но эта шутка в известном смысле не шутка. То, за что Ты должен был бороться, мы получили из Твоих рук, но борьбу за жизнь во внешнем мире, которая Тебе давалась легко и которой, разумеется, не миновали и мы, — эту борьбу мы должны были вести позднее, в зрелом возрасте, но детскими силами. Я не утверждаю, что из-за этого мы оказались в более тяжком, чем Ты, положении — мы были, вероятно, в равном положении (при этом я, конечно, не сравниваю исходные позиции), — мы в невыгодном положении лишь в том смысле, что не можем хвастаться своими бедами и никого не можем унизить ими, как это делал Ты. Я не отрицаю, что я действительно мог бы по-настоящему воспользоваться плодами Твоих больших и успешных трудов, употребить их во благо и приумножить, к Твоей радости, но этому помешало наше отчуждение. Я мог пользоваться тем, что Ты давал, но лишь испытывая чувство стыда, усталость, слабость, чувство вины. Потому я могу благодарить Тебя за все только как нищий, но не делом.
Другой внешний результат такого воспитания — я стал избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминало о Тебе, Прежде всего магазина. Сам по себе, в особенности в детстве, до тех пор пока это был просто магазин в переулке, он должен был бы меня очень радовать: ведь он был таким бойким местом, светился по вечерам огнями, там можно было многое увидеть и услышать, в чем-то помочь, отличиться, но главное — восхищаться Тобою, Твоим великолепным коммерческим талантом, тем, как Ты торговал, обращался с людьми, шутил, был неутомим, тотчас же находил решение в сложных случаях, и так далее; и еще: то, как Ты упаковывал покупки или открывал ящик, было достопримечательным зрелищем и все вместе в целом — совсем неплохой школой для ребенка. Но так как Ты постепенно все больше и больше начинал пугать меня, а магазин и Ты для меня сливались воедино, мне и в магазине становилось не по себе. То, что поначалу казалось мне там нормальным, мучило, смущало меня, в особенности Твое обращение со служащими. Не знаю, может быть, в большинстве мест оно было таким же (в Assicurazioni Generali, например, оно в мое время действительно было схожим, свой уход оттуда я объяснил директору — не совсем согласно с истиной, но и не совсем лживо — тем, что не могу выносить ругань, которая, впрочем, непосредственно ко мне и не относилась; я был в таких делах болезненно чувствительным еще с детства), но другие места в годы детства меня не заботили, В нашем же магазине я слышал и видел, что Ты кричишь, ругаешься и неистовствуешь, как, по тогдашним моим представлениям, никто больше в мире не поступает. И дело не только в ругани, но и в тиранстве. Когда Ты, например, одним движением сбрасывал с прилавка товары, которые не следовало мешать с другими, — только безрассудство Твоего гнева немножко извиняло Тебя, — а приказчик должен был их поднимать. Или Твое постоянное выражение по адресу одного приказчика с больными легкими: «Пусть он сдохнет, этот хворый пес». Ты называл служащих «оплаченными врагами», они и были ими, но еще до того, как они ими стали, Ты уже казался мне их «платящим врагом». Там я получил и великий урок того, что Ты можешь быть неправым; если бы дело касалось одного меня, я бы не так скоро это заметил, ибо во мне слишком сильно было чувство собственной вины, которое оправдывало Тебя; но там, по моему детскому разумению — позднее, правда, несколько, но не слишком сильно подправленному, — были чужие люди, которые ведь работали на нас и за это почему-то должны были жить в постоянном страхе перед Тобой. Конечно, я преувеличивал, ибо был уверен, что Ты внушаешь им такой же ужас, как и мне. Если бы было так, они действительно не могли бы жить, но, поскольку они были взрослыми людьми с превосходными, как правило, нервами, ругань легко от них отскакивала и в конечном счете причиняла гораздо больший вред Тебе, чем им. Для меня же все это делало магазин невыносимым, так как слишком сильно напоминало мое отношение к Тебе: не говоря уж о Твоей предприимчивости и властолюбии, Ты как коммерсант настолько превосходил всех, кто когда-либо учился у Тебя, что никакие результаты их работы не могли Тебя удовлетворить, примерно так же и я должен был вызывать Твое недовольство. Поэтому я, естественно, принимал сторону твоих служащих, кстати, еще и потому, что по своей робости не понимал, как можно так ругать чужого человека, и по робости же пытался как-то примирить страшно возмущенных, как мне казалось, служащих с Тобой, с нашей семьей, хотя бы ради собственной безопасности. Для этого мне было уже недостаточно вести себя просто вежливо, скромно, — следовало быть смиренным, приветствовать не только первым, но и по возможности не допускать, чтобы приветствовали меня; даже если бы внизу я, лицо незначительное, стал лизать им ноги, это не искупило бы того, что наверху на них набрасывался Ты, хозяин. Отношения, в которые я здесь вступал с окружающими, оказывали свое воздействие за пределами магазина и в будущем (нечто подобное, но не столь опасное и глубокое, как у меня, заключено, например, в пристрастии Оттлы к общению с бедными, в раздражающих Тебя добрых отношениях с прислугой). В конце концов я начал почти бояться магазина, и, во всяком случае, он давно уже перестал быть моим делом, еще до того, как я поступил в гимназию и тем самым еще больше отдалился от него. К тому же заниматься им представлялось мне совершенно непосильным, раз уж он, как Ты говорил, истощил даже Твои силы. В моем отвращении к магазину, к Твоему детищу — отвращении, причиняющем Тебе такую боль, — Ты все же пытался (теперь это трогает меня и вызывает чувство стыда) найти немножко услады для себя, утверждая, что я лишен коммерческих способностей, что у меня в голове более высокие идеи и тому подобное. Мать, конечно, радовалась этому объяснению, которое Ты против воли выдавливал из себя, и я в своем тщеславии и безысходности тоже поддавался ему. Но если б действительно или преимущественно «высокие идеи» отвлекали меня от магазина (который я теперь, только теперь, и в самом деле честно ненавижу), они должны были бы найти свое выражение в чем-то ином, а не в том, чтобы позволить мне спокойно и смиренно проплыть через гимназию и изучение права и прибиться в конце концов к чиновничьему письменному столу.