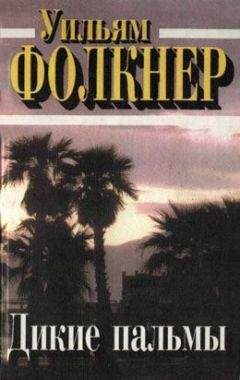А капитан Гуальдрес все это время стоял неподвижно; твердый как сталь, непоколебимый, он даже не побледнел. Потом капитан Гуальдрес обратился к дяде, и хотя они опять говорили по-испански, он, Чарльз, на этот раз все понял.
– Я проиграл, – сказал капитан Гуальдрес.
– Не проиграли, – сказал дядя.
– Истинно, – сказал капитан Гуальдрес. – Не проиграл. – Потом капитан Гуальдрес добавил: – Спасибо.
Потом наступила суббота; весь этот свободный от школы, ничем не оправданный день, когда нужно сидеть в конторе, приводить все в порядок, разбираться во всех тех мелочах, которые еще оставались, – так он, по крайней мере, думал, ибо даже под конец этого декабрьского дня еще не вполне осознал свою способность удивляться, приходить в изумление.
Он в сущности даже не верил, что Макс Гаррисс вернется из Мемфиса. Мистер Марки, находясь в Мемфисе, явно тоже в это не верил.
– Полиция города Мемфиса не может препроводить арестованного обратно в штат Миссисипи, – сказал мистер Марки. – Вы это знаете. Вашему шерифу придется кого-нибудь послать…
– Он не арестован, – сказал дядя. – Скажите ему это. Скажите, что я просто прошу его вернуться сюда и поговорить со мной.
С полминуты в телефонной трубке не было слышно ничего, кроме слабого жужжания той далекой силы, которая держит провода под напряжением и стоит кому-то денег независимо от того, передаются по ним голоса или нет. Потом мистер Марки сказал:
– Вы в самом деле надеетесь опять его увидеть, если я передам ему это сообщение и скажу, что он может ехать?
– Передайте ему мои слова и скажите, что я прошу его вернуться сюда и поговорить со мной, – повторил дядя.
И Макс Гаррисс вернулся. Он приехал как раз перед двумя остальными, и пока они поднимались по лестнице, как раз успел пройти в контору через приемную; он, Чарльз, закрыл дверь в приемную, а Макс остановился перед дверью и посмотрел на дядю – юный, стройный и все еще с иголочки одетый, слегка утомленный и как бы не в своей тарелке, словно этой ночью не выспался, и только в глазах его не было ни молодости, ни утомления. Глаза эти смотрели на дядю точно так же, как позавчера вечером, и совершенно ясно свидетельствовали, что с ним далеко не все в порядке. Однако что бы они ни выражали, подобострастия в них не было.
– Садитесь, – сказал дядя.
– Спасибо, – отозвался Макс, незамедлительно и резко, однако без всякого презрения, просто решительно и незамедлительно отверг это предложение. В следующую секунду он тронулся с места, подошел к письменному столу и стал с преувеличенной язвительностью оглядывать контору.
– Я ищу Хемпа Килигру, – сказал он. – А может, у вас тут сам шериф? Куда вы его упрятали? В бак для охлаждения воды? Если вы затолкали туда одного из них, он, наверно, уже помер от страха.
Но дядя все еще молчал, и тогда он, Чарльз, тоже на него глянул. На Макса дядя даже не смотрел. Он даже повернул вращающееся кресло в сторону и смотрел в окно, сидя совершенно неподвижно и лишь еле заметно поглаживая большим пальцем чашечку остывшей трубки, которую держал в руке.
Потом Макс тоже умолк и стоял, глядя сверху вниз на дядин профиль холодным мрачным взглядом, не выражавшим ни покоя, ни вообще ничего такого, что должно выражаться во взгляде молодых глаз.
– Ладно, – сказал Макс. – Вы не смогли доказать ни намерения, ни умысла. Все, что вы можете доказать, доказывать вовсе незачем. Я все заранее признаю. И подтверждаю. Я купил лошадь и поставил ее в отдельную конюшню на участке земли, принадлежащей моей матери. Я, видите ли, тоже немножко разбираюсь в законах. Я, кажется, усвоил как раз то незначительное количество второстепенных сведений, какие требуются первоклассному адвокату в захолустном городишке штата Миссисипи. А может, даже члену законодательного собрания штата, хотя, по-моему, даже чуть больше, чем нужно, чтобы меня избрали в губернаторы.
Дядя по-прежнему сидел не шевелясь, если не считать движений его большого пальца.
– На вашем месте я бы сел, – сказал дядя.
– На моем месте вы бы еще и не то сейчас сделали, – сказал Макс. – Ну так что?
Теперь дядя зашевелился. Опершись коленом о стол, он повернул кресло так, чтобы посмотреть Максу прямо в лицо.
– Мне вовсе не надо ничего доказывать, – сказал дядя. – Вы ведь не собираетесь ничего отрицать.
– Не собираюсь, – мгновенно отозвался Макс. Он произнес это с презрением, но без всякой злобы. – Я ничего не отрицаю. Ну, что дальше? Где ваш шериф?
Дядя внимательно посмотрел на Макса. Потом сунул в рот мундштук холодной трубки, затянулся, словно в ней горел табак, и заговорил мягко, почти небрежно.
– Я полагаю, что, когда мистер Маккалем привез лошадь и вы поставили ее в принадлежащую капитану Гуальдресу конюшню, вы сказали конюхам и прочим неграм, что капитан купил ее сам и не велел никому трогать. Чему они легко поверили, так как капитан Гуальдрес уже раньше купил лошадь, которую тоже не велел трогать.
Но Макс на это ничего не ответил – точно так же, как позавчера, когда дядя спросил, почему он не зарегистрировался в призывной комиссии. Он ждал, что дядя скажет еще, и на лице его не было даже презрения.
– Ну ладно, – сказал дядя. – Когда капитан Гуальдрес и ваша сестра намерены сочетаться браком?
И тут он, Чарльз, понял, что еще выражали эти мрачные холодные глаза. Они выражали тоску и отчаяние. Он увидел, как в них вспыхнул гнев; гнев горел, пылал и иссушал их, и они уже не выражали ничего, кроме этого гнева и ненависти, и он подумал, что дядя, может, и прав: на свете существуют страсти более низменные, чем ненависть, а если ты кого-нибудь ненавидишь, то наверняка того, кого тебе не удалось убить, пусть он даже ничего об этом и не знает.
– Я недавно заключил одну сделку, – сказал дядя. – И скоро узнаю, остался я внакладе или нет. А теперь я хочу заключить еще одну сделку – с вами. Вам не девятнадцать лет, а двадцать один, но вы даже еще не зарегистрировались в призывной комиссии. Вступайте в армию.
– В армию? – спросил Гаррисс.
– Да, в армию, – отвечал дядя.
– Понятно, – сказал Гаррисс. – Вступайте, а не то…
И тут Гаррисс разразился смехом. Он стоял перед столом, смотрел сверху вниз на дядю и смеялся. Но глаза его совсем не смеялись, и смех, постепенно сходя с его лица, покинул и глаза, хотя они и не смеялись, и в конце концов они стали такими же, какими были у его сестры позавчера, – в них выражались тоска и отчаяние, но ни ужаса ни страха не было; а дядины щеки тем временем двигались, как бы попыхивая холодной трубкой, словно в ней был дым.
– Нет, – сказал дядя. – Никаких «а не то». Вступайте, и все. Послушайте. Вы играете в покер. Я полагаю, что вы разбираетесь в покере или хотя бы – подобно многим другим – так или иначе в него играете. Вы прикупили карту, показывая этим, что у вас есть к чему прикупать. Если же карта, на которую вы надеялись и рассчитывали, к вам не пришла, вы не станете бросать игру, а будете до последнего цента притворяться, что она у вас имеется, причем даже не ради денежного выигрыша, а ради того, чтобы провести остальных игроков, молчаливо следующих той же тактике.
Потом оба застыли в неподвижности, и дядя даже перестал делать вид, будто курит. Потом Гаррисс глубоко вздохнул. В наступившей тишине был ясно слышен вдох и выдох.
– Сейчас? – спросил Гаррисс.
– Да, – отвечал дядя. – Сейчас. Сейчас же возвращайтесь в Мемфис и вступайте.
– Я… – начал Гаррисс. – У меня есть дела…
– Знаю, – сказал дядя. – Но я бы на вашем месте сейчас туда не ездил. После того, как вы вступите в армию, вам разрешат на несколько дней съездить домой и, скажем… привести свои дела в порядок. А сейчас возвращайтесь. Ваша машина внизу? Сейчас же возвращайтесь в Мемфис и вступайте.
– Да, – сказал Гаррисс. Он еще раз глубоко вздохнул. – Спускайтесь с этих ступенек, садитесь в машину и поезжайте. Почему вы думаете, что вы, или армия, или кто-то другой в конце концов меня поймает?
– Я об этом вовсе не думал, – сказал дядя. – Может, вам будет легче, если вы дадите мне слово?
Тем все и кончилось. Гаррисс еще немножко постоял у стола, потом пошел к двери и остановился, слегка наклонив голову. Потом поднял голову, и он, Чарльз, подумал, что Макс готов и на это – пройти через приемную, где сидят те двое. Но дядя успел его опередить.
– Окно, – сказал дядя, встал с кресла, подошел и открыл окно, выходящее на наружную галерею, откуда лестница вела прямо на улицу. Макс вылез через окно на галерею, дядя закрыл окно, и тем все кончилось: с лестницы донесся шум шагов, но на сей раз не было ни визга шин, ни замирающей вдали сирены, а если на сей раз Хемптон Килигру или еще кто-нибудь с криком погнался за ним, они с дядей и этого не услышали. Потом он подошел к двери в приемную и пригласил капитана Гуальдреса и сестру Макса войти.
Даже в темном двубортном костюме – из тех, какие большинство мужчин носят или во всяком случае имеют, – капитан Гуальдрес по-прежнему казался изваянием из бронзы или иного металла. И в нем по-прежнему было что-то лошадиное. Потом он, Чарльз, сообразил: это оттого, что лошади как раз и недоставало, и тут он впервые заметил, что жена капитана Гуальдреса немного выше капитана Гуальдреса. Словно при отсутствии лошади облик капитана Гуальдреса лишился своей законченности, утратив не только неподвижность, но и часть роста, словно когда он стоял на своих ногах, они вовсе не предназначались для того, чтобы их можно было видеть и сравнивать с другими.