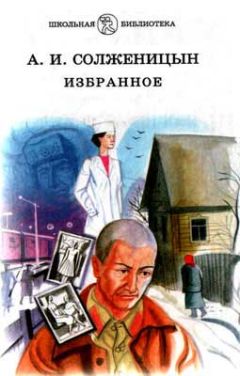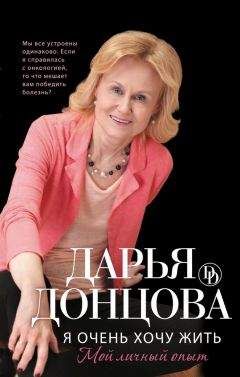Такова была особенность её памяти.
Нет, готовиться к сообщению сегодня она уже не сможет, да и день к концу. (Разве взять папку домой? Наверняка провозишь зря, хоть сотни раз она так брала и возила).
А что надо успеть сделать — вот "Медицинскую радиологию" освободить, статейки дочесть. И ответить этому фельдшеру в Тахта-Купыр на его вопрос.
Плохой становился свет из пасмурного окна, она зажгла настольную лампу и уселась. Заглянула одна из ординаторок, уже без халата: "Вы не идёте, Людмила Афанасьевна?" И Вера Гангарт зашла: "Вы не идёте?" — А как Русанов?
— Спит. Рвоты не было. Температурка есть. — Вера Корнильевна сняла глухой халат и осталась в серо-зеленоватом тафтяном платьи, слишком хорошем для работы.
— Не жалеете таскать? — кивнула Донцова.
— А зачем беречь?… Для чего беречь?… — хотела улыбнуться Гангарт, но получилось жалостно.
— Ладно, Верочка, если так, следующий раз введём ему полную, десять миллиграмм, — в своей убыстрённой манере, когда слова только время отнимают, протолкнула Людмила Афанасьевна и писала письмо фельдшеру.
— А Костоглотов? — тихо спросила Гангарт уже от двери.
— Был бой, но он разбит и покорился! — усмехнулась Людмила Афанасьевна и опять почувствовала от выпыха усмешки, как резнуло её около желудка. Она даже захотела сейчас и пожаловаться Вере, ей первой, подняла на неё прищуренные глаза, но в полутёмной глубине комнаты увидела её как собравшуюся в театр — в выходном платьи, на высоких каблуках.
И решила — до другого раза.
Все ушли, а она сидела. Совсем было ей неполезно и полчаса лишних проводить в этих помещениях, ежедневно облучаемых, но вот так все цеплялось. Всякий раз к отпуску она была бледно-сера, а лейкоциты её, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как преступно было бы довести какого-нибудь больного. Три желудка в день полагалось смотреть рентгенологу по нормам, а она ведь смотрела по десять в день, а в войну и по двадцать пять. И перед отпуском ей самой было в пору переливать кровь. И за отпуск не восстанавливалось утерянное за год.
Но повелительная инерция работы не легко отпускала её. К концу каждого дня она с досадой видела, что опять не успела. И сейчас между делами она снова задумалась о жестоком случае Сибгатова и записала, о чём посоветоваться при встрече на обществе с доктором Орещенковым. Как она ввела в работу своих ординаторов, так и её когда-то до войны вводил за руку, осторожно направлял и передал ей вкус кругозора доктор Орещенков. — "Никогда, Людочка, не специализируйтесь до сушёной воблы! — предупреждал он. — Пусть весь мир течёт к специализации, а вы держитесь за своё — одной рукой за рентгенодиагностику, другой за рентгенотерапию! Будьте хоть последней такой — но такой!" И он всё ещё был жив, и тут же в городе.
Уже лампу потушив, она от двери вернулась и записала дело на завтра. Уже надев своё синее не новое пальто, она ещё свернула к кабинету главврача — но он был заперт.
Наконец, она сошла со ступенек между тополями, шла по аллейкам медицинского городка, но в мыслях оставалась вся в работе и даже не пыталась и не хотела выйти из них. Погода была никакая — она не заметила, какая. А ещё не сумерки. На аллейках встречались многие незнакомые лица, но в Людмиле Афанасьевне и здесь не пробудилось естественное женское внимание — кто из встречных во что одет, что на голове, что на ногах. Она шла с присобранными бровями и на всех этих людей остро поглядывала, как бы прозревая локализацию тех возможных опухолей, которые в людях этих ещё сегодня не дают себе знать, но могут выявиться завтра.
Так она шла, и миновала внутреннюю чайхану медгородка и мальчика-узбеченка, постоянно торгующего здесь газетными фунтиками миндаля — и достигла главных ворот.
Кажется, проходя эти главные ворота, из которых неусыпная бранчивая толстуха-сторожиха выпускала только здоровых свободных людей, а больных заворачивала громкими окриками — кажется, ворота эти проходя, должна ж была она перейти из рабочей части своей жизни в домашнюю, семейную. Но нет, не равно делились время и силы её между работой и домом. Внутри медицинского городка она проводила свежую и лучшую половину своего бодрствования, и рабочие мысли ещё вились вокруг её головы, как пчелы, долго спустя ворота, а утром — задолго до них.
Она опустила письмо в Тахта-Купыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, развернулся нужный номер. Стали густо садиться и в передние и в задние двери. Людмила Афанасьевна поспешила захватить место — и это была первая внешняя мелкая мысль, начинавшая превращать её из оракула человеческих судеб в простого трамвайного пассажира, которого толкали запросто.
Но ещё и под дребезжание трамвая по старой однопутной колее и на долгих разминных остановках Людмила Афанасьевна смотрела в окно неосмысленно, все додумывая то о лёгочных метастазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии уколов на Русанова. Его обидная наставительность и угрозы, с которыми он выступил сегодня на обходе, затёртые с утра другими впечатлениями, сейчас, после конца дня, проступили угнетающим осадком: на вечер и на ночь.
Многие женщины в трамвае, как и Людмила Афанасьевна, были не с малоемкими дамскими сумочками, а с сумками-баулами, куда можно затолкать живого поросёнка или четыре буханки хлеба. С каждой пройденной остановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, Людмилой Афанасьевной завладевали мысли о хозяйстве и о доме. Всё это было — на ней и только на ней, потому что какой спрос с мужчин? И муж и сын у неё были такие, что когда она уезжала на конференцию в Москву — они и посуды не мыли неделю: не потому, что хотели приберечь это для неё, а — не видели в этой повторительной, вечно возобновляемой работе смысла.
Была и дочь у Людмилы Афанасьевны — уже замужняя, с маленьким на руках, и даже уже почти не замужняя, потому что шло к разводу. В первый раз за день вспомнив сейчас о дочери, Людмила Афанасьевна не повеселела.
Сегодня была пятница. В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была совершить большую стирку, уж набралось. Значит, обед на первую половину недели (она готовила его дважды в неделю) надо было во что бы то ни стало варить в субботу вечером. А замочить белье — сегодня бы тоже, когда б ни лечь. И в общем сейчас и только сейчас, хоть и поздно, ехать на главный рынок — там и до вечера кого-нибудь застанешь.
Она сошла, где надо было пересаживаться на другой, трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный «Гастроном» и решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец даже ушёл. В рыбном нечего было брать — селёдка, солёная камбала, консервы. Пройдя живописные многоцветные пирамиды винных бутылок и коричневые — совсем под колбасу — сырные круглые стержни, она наметила в бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла (перед тем было только хлопковое) и ячневый концентрат. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в бакалейный.
Но пока она тут стояла за двумя человеками — какой-то оживлённый шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ, и все выстраивались в гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна дрогнула и, не дождавшись получить в бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занимать и к продавцу и в кассу. Ещё ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но теснившиеся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно-рубленную по килограмму в руки.
Так удачно она попала, что был смысл чуть позже занять и вторую очередь.
Если б не этот охват рака по шее, Ефрем Поддуев был бы мужчина в расцвете. Ему ещё не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, твёрд в ногах и здрав умом. Он не то, что был двужильный, но двухребетный, и после восьми часов мог ещё восемь отработать как первую смену. В молодости на Каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той не много убыло, он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся — и так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддуеву, а всегда он будет такой. Несмотря на силищу, на фронте он не бывал — бронировали его спецстроительства, не отведал он ни ран, ни госпиталей. И ничем никогда не болел — ни тяжёлым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами.
И только в запрошлом году первый раз заболел — и сразу вот этим.
Раком.
Это сейчас он так с размаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки, и сколько терпёжу было — оттягивал, не шёл к врачам. И когда уже пошёл, и от диспансера к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, что у них — не рак, — Ефрем не захотел смекнуть, что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению: не рак у него и обойдётся.