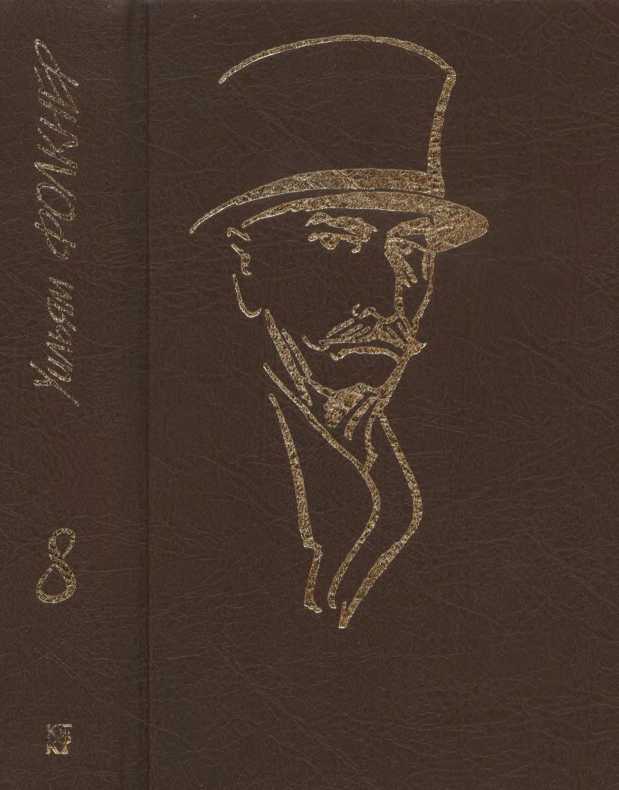совпадениях, на случайностях», — и он решительно подошел к машине, остановился около нее, думая: «Значит, она еще с прошлого четверга знала, что уедет, она просто не знала до вторника, до вечера, в какой именно день это будет». Машина была ослепительно, безукоризненно новая, и моложавый, вполне благопристойного вида агент или техник стоял тут же; а негр-привратник выходил из парадного, неся какие-то ее вещи.
— Добрый день, — сказал Стивенс. — Великолепная машина. Совсем новая, правда?
— Конечно, — сказал тот. — Она и земли не касалась, пока миссис Коль не позвонила нам вчера по телефону.
— Удачно, что у вас сразу нашлась для нее машина, — сказал Стивенс.
— Да нет, мы ее получили еще десятого числа. Когда она нам заказывала машину, еще в июле, она велела держать ее у нас, пока не понадобится. Очевидно, когда ее отец… скончался, планы у нее изменились.
— Да, от таких событий многое меняется, — сказал Стивенс. — Значит, заказ был сделан еще в июле?
— Так точно. Говорят, того типа еще не поймали?
— Пока нет, — сказал Стивенс. — Чудесная машина. Я бы тоже от такой не отказался, — и пошел дальше, в открытые двери, вверх по ступенькам, привыкшим к его шагам, в комнату, тоже привыкшую к нему. Линда стояла и смотрела, как он идет, уже одетая по-дорожному, в выгоревшем, но свежевыглаженном защитном комбинезоне, с накрашенными губами и с лицом, сильно намазанным для защиты от дорожного ветра; на стуле лежал потрепанный макинтош, сумка, толстые перчатки и шарф: она сказала:
— По крайней мере, я не солгала. Я могла бы спрятать машину в гараж, пока вы не уйдете, но не спрятала. — Но сказала она это не словами; вслух она проговорила: — Поцелуй меня, Гэвин. — И сама подошла к нему, обхватила его руками, крепко, не торопясь, и прижала рот к его губам, сильно и смело, раскрыв губы, а он обнял ее, как бывало и раньше, и его рука скользнула вниз, по спине, где раздвоенная выпуклость кругло и крепко подымалась под жесткой серой тканью, но его рука не чувствовала ответа — ответа никогда не было, никогда не будет, — для верности нет угрозы, нет опасности, даже если бы ничего не было меж рукой и раздвоенной округлой женской плотью, и всегда он только касался ее, понимая и принимая все не с безнадежностью, не с горечью, а только с грустью, он просто поддерживал ее сзади, как сажают на ладонь невинное, неоформившееся тельце ребенка. Но не сейчас, не в этот раз. Сейчас он испытал страх, и в страхе он подумал: «Как это было сказано? „Мужчина, чье непреодолимое обаяние для женщин в том, что одним своим присутствием он вселяет в них уверенность, будто готов ради них на любую жертву“. Только сейчас все наоборот; совсем наоборот: дурак, простак, не только не знает, куда забивать мяч в бейсболе, но даже не знает, что участвует в игре. Их и соблазнять ничем не надо, потому что они давным-давно тебя наметили, они тебя выбрали просто потому, что верили: оттого что ты выбран, ты сразу не только готов, не только согласен, ты страстно жаждешь принести ради них любую жертву, только надо обоим вместе выдумать какую-нибудь настоящую жертву, стоящую». Он думал: «Сейчас она поймет, что она не может мне доверять, и только надеется, что, может, оттого и прижалась всем телом, оттого так крепко обняла за плечи, словно хочет потянуть за собой, хотя здесь нет постели», — но тут он страшно ошибался. Он думал: «Зачем ей впустую тратить время, проверять меня, если она всю жизнь знала, что ей только и надо положиться на меня». И она стояла, обняв его, и целовала, пока он сам не попытался высвободиться, и тут она выпустила его и посмотрела ему в лицо своими темно-синими глазами, без тайны, без ласки, даже, может быть, без нежности.
— У тебя весь рот в помаде, — сказала она, — тебе надо умыться. Да, ты прав, — сказала она, — ты всегда прав в том, что касается меня и тебя. — В глазах не было тайны; упорство — да, но не тайна; когда-нибудь он, может быть, вспомнит, что в них и настоящей нежности не было. — Я тебя люблю, — сказала она. — А тебе мало досталось. Нет, это неверно. Ничего тебе не досталось. Ничего у тебя не было.
Он только знал, что она хочет сказать: сначала ее мать, потом — она; дважды он хотел отдать всего себя и ничего не получил взамен, кроме права быть одержимым, околдованным, если хотите — одураченным. Рэтлиф — тот непременно сказал бы «одураченным». И она знала, что он это знает; в этом (вероятно) и было их проклятие: они оба сразу, сейчас же узнавали друг про друга все. И не из честности, не потому, что, как она считала, она всю жизнь была влюблена в него, она позволила ему увидать ее новый «ягуар», позволила понять, какое значение можно было бы этому придать при обстоятельствах, сопровождавших смерть ее так называемого отца. Она сделала это потому, что все равно не могла скрыть от него, что заказала машину в Нью-Йорке или в Лондоне, словом, там, откуда ее прислали, как только узнала, что удастся выхлопотать помилование для Минка.
В каждом ее костюме был карман, сделанный точно по размеру маленького блокнотика слоновой кости с коротким грифелем. Он знал, где этот кармашек в комбинезоне, и, протянув руку, вынул блокнот. Он мог написать: «У меня есть все. Ты мне верила. Ты предпочла, чтобы я подумал, будто ты стала убийцей своего так называемого отца, лишь бы не солгать». Он мог бы и, может быть, должен был бы написать: «У меня есть все. Разве я только что не был пособником в подготовке убийства?» Но вместо этого он написал: «У нас все было».
— Нет, — сказала она.
Он написал: «Да».
— Нет, — сказала она.
Он написал «ДА» такими крупными буквами, что занял всю-всю табличку, потом вытер ее ладонью и написал: «Возьми с собой кого-нибудь в машину. Ты можешь разбиться».
Она взглянула на эти слова настолько мельком, что каждый подумал бы — вряд ли она успела их прочесть, и снова посмотрела на него этими темно-синими глазами, и, была ли в них ласка, была ли в них нежность, была ли в них настоящая искренность, не все ли равно. И ее рот в смутной улыбке был измазан помадой, и она, эта улыбка, казалась мягким мазком, расплывчатым пятном.
— Я люблю тебя, — сказала она. — Я никогда никого, кроме тебя, не любила.
Он написал: «Нет».
— Да, — сказала она.
Он