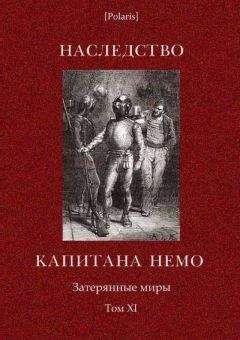— Доску с десятью заповедями я еще не научился вырезать, — пробормотал столяр.
Но советчик ободрил его, что, мол, ничего, он и это сделает. Эльокум Пап пошел домой и заговорил с женой тоном победителя. Ну, кто был прав? Молельня реба Исроэлки, что у Виленки, заказала ему еще одного льва и скрижали Моисеевы. И заработает он гораздо больше, чем сколачивая простые табуретки. Так что она теперь скажет? И Матле действительно нечего было сказать. Просияв от счастья, она согласилась, что поскольку он умеет, ему позволительно быть резчиком. Мастера больше уважают, да и заработок его выше.
Эльокум Пап потратил немало времени и испортил много дубовых досок, прежде чем ему удалось вырезать еще одного льва, который казался ему близнецом первого. Только тогда он взялся за скрижали с десятью заповедями. Он облазил все молельни, подолгу стоял с задранной головой, разглядывая скрижали на ковчегах, пока не решил, что из каждой заповеди он вырежет только первые два слова, как это делают другие резчики. И вот из большого Пятикнижия он начал перерисовывать буквы на обструганную доску, вырезать их ножом, шкурить наждачной бумагой, полировать, покрыв лаком. Поскольку работа продолжалась долго, а жена ему всю плешь проела, говоря, что дети хотят есть, он закончил пару длинных лестниц, которые заказали у него маляры. При этом он злобно бурчал: «Тоже мне работа. Лестницы! Знай себе пили доски да забивай гвозди — и ничего больше. Тоже мне премудрость!» Но когда он закончил скрижали и вместе со львами поставил их на стол, чтобы рассмотреть, и он, и Матля были счастливы.
На этот раз Эльокум пошел в молельню реба Исроэлки, что у Виленки, к утренней молитве, когда можно встретить старосту. Молящиеся только начинали. Еще можно было перекинуться словом. Они окружили резчика и с любопытством смотрели на его мешок.
— Вот он, этот еврей со львами, — прошептал кто-то у восточной стены старосте.
— Вот этот мужик с картошкой? — переспросил староста трубным голосом и направился к столяру.
Эльокум Пап увидал перед собой бородатого, высокого, широкоплечего еврея с круглым лицом и мягким ртом с большими, толстыми губами.
Львы и скрижали переходили из рук в руки. Евреи вертели поделки и постукивали по ним пальцами, как постукивают по тарелкам, чтобы услышать звон чистого фарфора. Молящиеся не высказывали своего мнения — ни хорошего, ни плохого — ждали, что скажет староста. Но прежде чем староста открыл рот, старый служка еще раз осмотрел доску с десятью заповедями и увидел два слова, вырезанных под каждой из скрижалей.
— Что тут написано? — спросил он.
— Мое имя, — ответил столяр. — Я вырезал здесь свое имя: Эльокум Пап, чтобы знали, что я мастер.
— Вы? Вы? — Некоторые время служка не мог выговорить ни слова. — Это вы дали десять заповедей на горе Синайской? Моисей, учитель наш, не поставил своего имени на десяти заповедях, а вы поставили свое имя?
Евреи засмеялись, а староста прикрикнул:
— Что вы разговариваете с этим придурком? Давайте молиться!
Только один мягкосердечный еврей, тот самый, который советовал столяру сделать скрижали, снова вмешался: пусть будет без скрижалей! Ведь десять заповедей записаны в святой Торе, а свитков Торы в ковчеге хватает — вот бы так же всегда хватало евреев для миньяна. Так давайте возьмем у ремесленника львов и покончим с этим делом.
— Хорошо, — согласился столяр. — Я вырежу свое имя Эльокум Пап на львах, поставьте их наверху над ковчегом и делу конец.
— Кто вы такой? Банкир Бунимович, чтобы ваше имя было вырезано в нашем бейт-мидраше? Да еще над ковчегом ему хочется, придурку! — заорал староста и погнал евреев приниматься за молитву, ибо день не стоит на месте.
Каждый из молящихся раскачивался в своем уголке, лишь столяр все время стоял окаменев. После молитвы, когда евреи заторопились к выходу, Эльокум Пап загородил им дорогу. Хорошо, сказал он, пусть его имя не будет вырезано даже на львах. Главное, чтобы их установили на ковчеге, а ему заплатили за работу.
— А даром я их возьму? — отпихнул его от входа староста. — Один лев так похож на другого, как сума замарашки на луну. Пойдемте, евреи.
Когда муж принес свой мешок с поделками назад, сияющее лицо Матли сразу погасло.
— Проклятие старосте и его прихвостням, — прорычал Эльокум Пап и принялся за работу.
Целую неделю он не выходил из мастерской, пилил и строгал доски, склеивал планки и забивал гвозди. Скамейки, столы и полки буквально росли у него в руках. Но чем больше он работал, тем мрачнее становился. Он мало ел, молчал как бревно и даже не смотрел на дочерей. Лишь каждый раз, когда ему на глаза попадались львы, валяющиеся в стружках, он бормотал:
— Проклятие старосте и его прихвостням.
Молельня во дворе Песелеса когда-то славилась своими состоятельными прихожанами. Эти старые прихожане перемерли, оставив по себе на стенах мраморные доски с выбитыми на них позолоченными надписями, свидетельствующими об их добрых деяниях. Один пожертвовал молельне медный рукомойник, другой — ханукальную лампаду, третий — свиток Торы, четвертый дал наличными пару тысяч рублей на ремонт.
Дети усопших филантропов приходили молиться только по субботам и праздникам. В будние дни бейт-мидраш пустовал. В час заката дрожащие лучи солнца проникали сквозь оконные стекла и позолоченные буквы на мраморных досках вдруг начинали сверкать. Потом солнечные лучи гасли и темно-голубые тени скрывали куски мрамора с именами состоятельных прихожан.
В годы войны между войсками русского царя и германского кайзера святое место ожило. В лагерях еврейских беженцев, высланных из местечек на границе с Восточной Пруссией, где разгорелись бои, тоже были ешиботники[6] и раввины. Часть беженцев не хотела уходить еще дальше, в глубину русского тыла. Они остались в Вильне и уселись изучать Тору в молельнях на Синагогальном дворе, а также в молельне Песелеса, которая тогда еще сияла свежей побелкой, разукрашенная и полная молитвенных принадлежностей. Когда русские отступили и Литовский Иерусалим попал под власть немцев, новые хозяева забрали из каждого дома и из каждой молельни металлические предметы, чтобы перелить их в пули и пушки. Из молельни Песелеса они тоже вывезли большую серебряную ханукальную лампаду, бронзовые люстры, медный рукомойник и таз, даже медные набалдашники с перил вокруг бимы[7] и священного ковчега. Бейт-мидраш выглядел теперь разоренным и ободранным, похожим на его отощавших, изголодавшихся, опечаленных ученых. В конце концов война закончилась и знатоки Торы из литовских местечек разъехались по домам. Молельня Песелеса тоже лишилась своих временных прихожан и стала еще более пустой и покинутой. В каждом из ее углов появилась паутина. Скамьи и пюпитры валялись с искривленными ножками. Штукатурка отваливалась от стен, окна сверкали разбитыми стеклами, священный ковчег стоял голым, без покрывала. В молитвенном доме остались только свитки Торы и шкафы со множеством священных книг. Если бы не высокие, узкие, круглые окна, никто бы и не помнил, что во дворе Песелеса находится святое место.
Из прежних литовских ученых там остался только один, реб Довид-Арон Гохгешталт из местечка Вержбелов[8]. Он не вернулся к себе домой, потому что не хотел жить со своей женой, которая была старше его на целых двадцать лет. От долголетнего одинокого сидения в молельне у вержбеловского аскета появилась привычка разговаривать с самим собой, размахивая руками, пожимая плечами и качая головой, словно в попытке убедить кого-то: нет! нет! он не вернется к своей проклятой жене. Понемногу в пустой молельне стали появляться и другие ученые, люди, отжившие свое даже по сравнению со старомодными евреями из других бейт-мидрашей. Поскольку устоявшегося порядка и обряда в этом заброшенном святом месте не было, а состоятельные обыватели вообще перестали ходить сюда, каждый ученый мог спокойно сидеть в своем уголке. Никто никому не мешал. Кто хотел, мог заночевать либо в мужской части молельни, в бейт-мидраше, либо в пустующей женской.
Соседи, жившие во дворе Песелеса, редко слышали из бейт-мидраша веселый голос, напев Гемары[9], словно изучавшие там Тору постоянно дремали за своими пюпитрами или просто сидели как истуканы. Лишь изредка кто-нибудь из ученых начинал раскачиваться над лежащей перед ним на пюпитре святой книгой и отрывок его возгласа вылетал из окна как черная птица. Завсегдатаи молельни даже не всегда молились в миньяне; а когда они все-таки молились вместе, а не по одиночке, ведущий молитву больше нашептывал про себя, чем читал громко для каждого, пока наконец сердито не восклицал: «Свят! Свят! Свят!» И кто-то вторил ему громко, резко, с сердечным надрывом. После этого молельня снова погружалась в задумчивое молчание, в печальную, застывшую аскезу литовской субботы. Поэтому соседи, жившие во дворе Песелеса, дали этому бейт-мидрашу прозвище, прижившееся в Вильне: «Немой миньян».