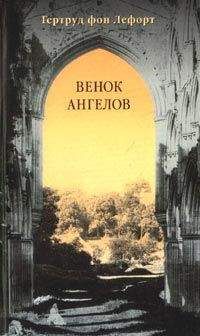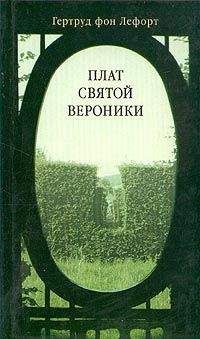– Боже мой! Боже мой! – бормотал он, закрыв лицо руками. – Как же здесь можно жить? Какой позор для человечества!..
Тем временем капеллан спросил больную, не она ли произнесла слово «resistez». Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Больная выпрямилась и, нисколько не заботясь о том, что капеллан ждет ответа на свой вопрос, протянула герцогу свою невесомую старческую руку.
– Добро пожаловать, – промолвила она, как и до этого, слабым, но очень ясным голосом. – Милости просим. И ничего не бойтесь – здесь славно.
Слова ее, прозвучавшие словно из какого-то другого мира и вначале почти совершенно непонятные, остались без ответа. Едва ли кто-нибудь мог бы объяснить, что руководило Марией Дюран. Приняла ли она герцога за нового узника, одного из тех мужчин, присланных обратно с галер, или хотела просто успокоить гостя, заметив ужас на его лице, вызванный ее положением? Сочла ли она своим долгом утешить его, как утешила уже столь многих? Ясно было лишь одно: она, сама нуждаясь в сострадании, исполнилась состраданием к нему.
– Нет, нет, не сомневайтесь, – продолжала она. – Сюда уже попадало много людей, охваченных отчаянием, и никто из них не остался без утешения. Бог любит узников – Он дает им внутреннюю свободу. Дарует Он ее и вам. О, внутренняя свобода непобедима – ни одна башня, ни одна темница не способны уничтожить ее.
Герцог стоял как парализованный. Он чувствовал, что в нем происходит нечто вроде полной переоценки всей его прежней жизни. Потом он вдруг представил себе, что стоит на самом верху этой башни и видит море…
– Сколько времени вы провели здесь? – спросил он наконец.
– Не знаю, – ответила она приветливо. – Время пролетело так быстро. Оно здесь невесомо, как будто совсем умерло. В этой башне начинается вечность… – Она улыбнулась.
Мария Дюран провела здесь тридцать девять лет, – вмешался комендант, в которого потрясение герцога вселило надежду. – Она была совсем юной, когда ее привезли сюда, мне рассказывал об этом мой отец, Румяна и свежа, как яблочко, – такой ее изображал отец… Да, это было тридцать девять лет назад…
– Тридцать девять лет?! Тридцать девять лет!.. – в ужасе воскликнул герцог. Лицо его при этом побелело и стало почти таким же, как лицо узницы.
– Прикажете идти дальше? – спросил комендант. Он решил, что герцогу стало дурно.
Герцог не ответил. Он вдруг склонился к морщинистой, неухоженной руке старицы и с благоговением поцеловал ее.
– Мария Дюран, вы свободны, – молвил он затем. – С этой минуты вы – свободны. – Затем, обращаясь к коменданту, прибавил: – Свободны все. Все! Я приказываю сегодня же отпустить всех на свободу. И, бросившись к выходу, он стал стремительно спускаться по лестнице.
Капеллан догнал его лишь у самого моста.
– Ради всего святого, герцог! Позвольте мне поддержать вас, – сказал он. – Вы же сейчас упадете!
– Напротив, – возразил герцог. – Я только сейчас обрел, наконец, прочную опору: я потерял свою веру.
Капеллан удивленно взглянул на него.
– Вот как? Разве у вас была вера, герцог? – произнес он с легкой иронией. – Это для меня новость.
– Да, у меня была вера, – ответил герцог. – Я верил в победу атеизма.
Капеллан на мгновение растерялся.
– Отрадно слышать это, дорогой герцог, – заговорил он затем мягко и вкрадчиво. – Пути Господни к душе человеческой неисповедимы. Но вернемся пока что к путям человеческим. Вы милостиво распорядились о немедленном освобождении узников, и комендант покорно просит у вас необходимую для этого грамоту короля, подтверждающую ваши полномочия.
Герцог вздрогнул. Ему лишь теперь пришло в голову, что он превысил свои полномочия: помилование узников было исключительным правом короля. Но отменить отданный им приказ было совершенно невозможно. На карту поставлен был его авторитет наместника.
– Долг коменданта – исполнять мои приказы, – ответил он не без некоторого высокомерия, – а о королевской грамоте я позабочусь сам. Она поспеет в срок. – И, заметив, что капеллан все еще колеблется, прибавил: – Коменданту, я полагаю, будет достаточно слова дворянина.
Спустя несколько часов герцог уже мчался в Париж. Капеллан следовал за ним в другой карете: герцогу, который все еще не мог оправиться от глубокого потрясения, испытанного в тюремной башне, любое общество было невыносимо. К тому же он чувствовал легкую тревогу, связанную с необходимостью добывать королевскую грамоту: он знал, как не любит Его Величество внезапные аудиенции, ему были знакомы бесконечные приемные покои, в которых нужно часами томиться, чтобы несколько мгновений лицезреть короля, а времени для этого уже не осталось: герцог был полон решимости сдержать данное слово, чего бы это ему ни стоило.
«Ренет, уж верно, что-нибудь придумает», – успокаивал он себя. Он невольно называл маркизу, свою высокую покровительницу, льстиво-грациозным именем, которое она носила еще молоденькой девушкой и которое позже оказалось в какой-то мере пророческим. Ибо Ренет и в самом деле стала маленькой королевой [7]. Вернее, она, в сущности, даже была большой королевой, ибо что значит супруга монарха в сравнении с его всемогущей метрессой! Тень, ничто, носительница голого титула! Конечно, способ этого возвышения Ренет вначале глубоко ранил герцога: нелегко ему было уступить любимую женщину королю. Порой он испытывал соблазн последовать примеру маркиза де Монтеспана, который явился во дворец «короля-солнца» в траурном платье, когда тот возвысил его жену до своей метрессы. Но он не стал являться во дворец в трауре – времена изменились: сегодня знатные фамилии почитают за честь быть поставщиками королевских метресс. И он тоже был дитя своего времени; надо принимать это время, если не хочешь стать посмешищем. Да и Ренет умела утешить герцога: ее ласковая рука и холодный ум наложили целебный пластырь на его раненую гордость.
– Теперь я наконец смогу позаботиться о вас, – сказала она. – Довольно вам быть просто носителем своего гордого имени, лишенным какого бы то ни было влияния. Вы займете место, которое принадлежит вам по праву, и это… да, и это и будет мне утешением в моей судьбе.
И она сдержала слово: став протеже Ренет, герцог поднялся по крутой лестнице успеха до того высокого поста, который занимал сегодня. Он не противился это му, между ним и Ренет возникло даже некое весьма своеобразное соглашение, которому он до сих пор так и не подобрал имени. И вот сегодня у него впервые появилось чувство тревоги, такое ощущение, как будто на этот раз правила игры были как-то нарушены. Но тревога эта, конечно же, была обусловлена лишь необычайной срочностью дела.
В Париж герцог прибыл на рассвете, утомленный стремительной ездой. Он, несмотря на то что уже был наместником в отдаленной провинции, привык жить в Париже. Он даже серьезно уверял всех, что не может жить нигде, кроме как в Париже. Еще в дороге он послал нарочного с запиской к маркизе, чтобы предупредить ее о своем визите. Поспешно стряхнув с себя дорожную пыль и сменив платье, он немедленно отправился в Версаль, чтобы застать свою подругу за lever [8] и не пропустить этой прелестнейшей ежеутренней сцены, собиравшей у влиятельной фаворитки многочисленных поклонников и просителей. Герцог сгорал от нетерпения, стремясь как можно скорее оказаться в ее покоях. Но когда он уже на пороге ее комнаты почувствовал нежный запах духов Ренет, который всегда оказывал на него чарующее действие, он вдруг опять ощутил необыкновенно сильный прилив какого-то смутного беспокойства. Он помедлил немного, еще не решаясь войти, но слуга уже учтиво распахнул двери перед хорошо знакомым гостем.
Маркиза сидела перед туалетным столиком и была занята прической. На ней было великолепное неглиже, с глубоким вырезом на груди, без рукавов, так что гости могли любоваться ее прекрасными, точеными руками. День был тусклым, и слуги зажгли свечи; от них по всей комнате, полной людей, разлился теплый золотистый свет. Гости, одни с назойливой любезностью, другие с умильно-нежными вздохами, теснились вокруг своего кумира. Одни спешили подать ее камеристке заколку для волос, чтобы удостоиться чести принять участие в туалете всемогущей фаворитки, другие, стоя поодаль с прошениями в руках, ждали знака маркизы, чтобы смиренно вручить их ей. Но хозяйка, казалось, были совершенно занята украшением своей персоны. Устремив взор в большое, обрамленное черным деревом зеркало, которое держала перед ней коленопреклоненная камеристка, она улыбалась своему собственному отражению, не обращая внимания на гостей. Не сразу заметила она и герцога, который, все еще борясь с чувством беспокойства, остановился неподалеку от двери. Хотя маркизу заслоняли от него многочисленные почитатели, в голове у него мелькнуло странное сравнение, уже не в первый раз приходившее ему на ум при виде Ренет: образ одной из тех красивых, таинственно мерцающих змей, о которых говорят, будто они одиноко и самовлюбленно танцуют под луной. Но этот образ, конечно, был иллюзией, тем более что маркиза была отнюдь не одинока, и все же это сравнение имело что-то общее с действительностью.