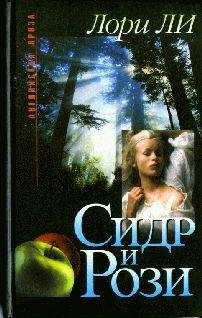Зима была, конечно, самым тяжелым временем для стариков. Тогда они съеживались, как улитки в рассоле. Однажды в воскресенье мы заглянули к чете Девисов, которая жила рядом с магазином. Стоял холодный серый январь, мороз буквально валил с ног, уже трое стариков, каждый в свою счастливую субботу, были отвезены к могилам. Мистер и миссис Девис тоже были древними старичками, но они упрямо боролись за выживание; они следили друг за другом, как мне помнится, с видом расчетливых картежников. В то утро жена принялась обсуждать похороны с Матерью. Мы, мальчики, прижались к огню. Миссис Девис была весела, перебирала присутствовавших на похоронах, оценивая состояние их здоровья. Она покачала белой головой, бросила взгляд на мужа и начала гадать, кто же может быть следующим.
Старик какое-то время слушал, потом подкинул несколько поленьев в огонь и выбил трубку о гамаши
«Лучше бы ты поплотнее заткнула окна, миссис, — проскрипел он. — Старый пидер-ветер совсем оборзел к выходным».
Несколько минут он тяжело дышал и даже немного покашлял. Затем снова впал в блаженное молчание. Жена окинула его острым взглядом, а потом со вздохом повернулась к матери.
— Когда-то приходилось пошевеливаться, чтобы ладить с ним, — сообщила она. — Теперь с ним можно договориться. Он уже не тот, каким я помню его. Годы притормозили.
Муж только хмыкнул и уставился в огонь, делая вид, будто в рукаве у него припрятано еще несколько карт.
Через пару недель он не встал с постели. Он плохо себя почувствовал, и врач сказал, что дело идет к концу. Мы снова пошли в коттедж на берегу поинтересоваться здоровьем старика. Миссис Девис, которая выглядела даже игриво в новой желтой шали, приняла нас в своей похожей на коробок кухоньке — крохотной закопченной пещерке, в которой за долгую жизнь скопилось множество хрупких трофеев, включая какие-то остатки фарфора: часы с ангелочком, свиток с мудрым изречением над камином, бюст Виктории, несколько разбитых чайников и курительных трубок. И гравюра английского солдата на стене.
Миссис Девис варила в кастрюльке овсянку, ее худая спина напоминала круглый садок для угрей. Она пригласила нас сесть, энергично помешала кашу и сама опустилась в плетеное кресло.
— Он плох, — сообщила она, мотнув головой вверх, — и не приходится удивляться. У него много лет немония… легкие — как губка. Он не знает, но мы считаем, ему конец.
Она протянула нам, мальчикам, горсть сухого гороха поточить зубы и уселась поудобнее, чтобы поболтать с Матерью.
— Вот как оно было, миссис Ли. Он заболел в пятницу. Я послала за дочкой, за Мардж. Мы привели к нему двух докторов, доктора Вилльса и доктора Пакера, но они разошлись во мнениях по поводу операции. Доктор Вилльс, знаете ли, вообще не верит, что нужно резать, поэтому он прописал мужу курс лечения. Но доктор Пакер, он ужасно увлечен хирургией, он жестко стоял за нож. Но Альберта было ни за что не уговорить. Он сказал, что не намерен быть зарезанным. «Дайте мне немного вареного бекона и оставьте меня ждать», — так заявил он. Конечно, тут я с ним заодно. Правда ведь — если вас разрежут, вам уже никогда не стать, как прежде.
— Давайте я доварю овсянку, — предложила Мать, вставая. — Вы пытаетесь взвалить на себя слишком много.
Миссис Девис рассеянно уступила ложку и плотнее завернулась в шаль.
— Видите ли, миссис Ли, я сидела тут одна весь вечер и перебирала в уме всех, кого Он забрал; и, начиная с фермера Ласти, я насчитала почти сотню. — Она набожно скрестила руки и подняла глаза к потолку. — Дай мне сил бороться с миром и со всем, что мне предназначено…
Позже нам позволили подняться на второй этаж и навестить старика в постели. Он лежал в ледяной, неопрятной спальне, дыхание вырывалось резко, тяжело, тонкие коричневые пальцы впились в простыню, как крючки медной проволоки. Голова казалась черепом, обернутым в желтую бумагу с двумя сверкающими дырами. Волосы дыбом стояли на голове, как примороженная трава на камне.
— Я привела мальчиков навестить вас! — прокричала Мать, но мистер Девис не ответил; он смотрел в сторону, в какую-то сияющую даль, на что-то, чего мы видеть не могли. Последовала долгая пауза, пахнущая одеколоном и постельной пылью, сырыми стенами и яблочным уксусом, применяемым против лихорадки. Потом старик вздохнул и стал еще меньше, осталась лишь яркая влага на подушке. Он облизнул губы, кинул взгляд на жену и издал хриплый полусмешок, полукашель.
— Когда я уйду, — выдавил он, — проследи, чтобы все было пристойно, миссис. Заверни мои достоинства в красный шелковый носовой платок…
Сырые зимние дни временами казались нескончаемыми, и очень часто они приводили к покушениям на собственную жизнь. Девушки прыгали со стен, юноши резали себе вены, старые девы запирались в доме и морили себя голодом. В этих жестах звучало что-то расточительное, презрение к жизни, но и жалоба. Тех, кто прибегал к такому, никогда не осуждали, о них говорили особым, пониженным голосом, как будто такой поступок поднимал их над жизнью и побеждал страдания мира. Кроме того, такие выплески часто становились заразительны и иногда приводили к волнам самоубийств; и действительно, во время одного уж очень мрачного сезона дурному примеру последовал даже один следователь по делам о самоубийствах.
Но если вы умудрялись как-то выдержать свою меланхолию и искалеченные легкие, становилось вполне возможным жить в этой долине долго. Джозеф и Ханна Браун, например, показали пример стойкости. Потому что, сколько я себя помню, они жили вдвоем в том же доме у пустыря. Говорили, что они прожили там пятьдесят лет, что мне казалось вечностью. Они подняли большую семью, и вывели всех детей в мир, и продолжали жить одни, от их шумного выводка не осталось ничего, кроме фотографий и нескольких зачитанных писем.
Старики жили друг для друга, как молодожены, довольные жизнью и самодостаточные; они никогда не покидали ни деревни, ни друг друга, они жили в своей скорлупе, как два прильнувших каштанчика. Днем из их камина вился голубой дымок, вечерами светились красные окна; коттедж, когда мимо него проходили, заявлял: «Тут живут Брауны», они как бы стали частью самой природы.
Седые и высохшие, они были достаточно активными, но распоряжались своими жизнями без спешки. Старушка готовила, кидала корм цыплятам, развешивала постиранное белье на кустах; старик приносил дрова и рубил их топориком, немножко возился в огороде, иногда сидел на улице и смотрел на долину или просто дремал. Когда наступало лето, они заготавливали фрукты и овощи, а когда приходила зима — ели их. Они не делали ничего сверх необходимого для выживания, но то, что делали, делали основательно, умело — потом сидели рядышком на своей кухне с часами-ходиками, наслаждаясь полувековой тишиной. Кто бы ни зашел навестить их, получал степенное приветствие, будь то человек, животное или ребенок; по мне, они походили на двух рыжевато-коричневых муравьев, медленных, но искусных в своих действиях; довольно прожорливых, но бережливых к пище, с бесконечным запасом спокойствия. Они разговаривали друг с другом только тихим голосом, короткими, щебечущими фразами, похожими на птичье пение, а когда они двигались в своей крохотной кухоньке, они делали это очень плавно, вслепую скользя по обкатанным знакомым рельсам, никогда не сталкиваясь и не мешая друг другу. Они были любящие, розовощекие, похожие на две вишенки, проросшие друг в друга за долгие совместные годы, с одинаковой внешностью и даже выговором.
Казалось, что старые Брауны принадлежат вечности, и чудо их выживания стало возможным благодаря длительности их любви — если можно это назвать любовью — такой вот баланс. Затем внезапно, буквально за пару дней, их обоих подкосила слабость. Выглядело это так, будто бы две машины, притертые и синхронизированные, сломались одновременно. Их взаимозависимость была такой легендарной, что мы сначала не заметили их состояния. Но через неделю отсутствия их возле дома соседи решили, что надо бы зайти. Они нашли старую Ханну на кухонном полу. Она кормила мужа с ложечки. Он лежал в углу, слегка прикрытый циновкой. И оба они были слишком слабы, чтобы подняться. Она нарезала тарелку корок, объяснила старушка, но не смогла разжечь огонь. Но они в порядке, правда, просто немножко обессилены; они справятся, не стоит беспокоиться.
Сообщили властям; наконец, нашлось занятие для Дам Попечительниц. И было решено, что им нужно переехать. Они стали слишком слабыми, чтобы помогать друг другу, а их дети слишком далеко, слишком заняты. Есть лишь один выход; и это к лучшему; их нужно перевезти в Приют.
Старички были шокированы и напуганы, они лежали, схватившись за руки. «Приют» — это слово позора, серые тени, попадающие за забор жизни, то, чего больше всего боятся старики (даже когда это называется Больница); слово, ненавидимое больше, чем слова «долг», или «тюрьма», или «попрошайничество», или даже позор сумасшествия.