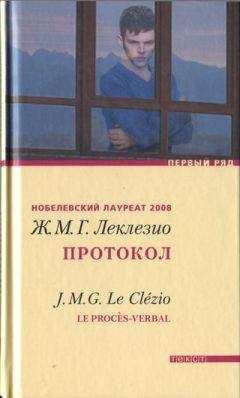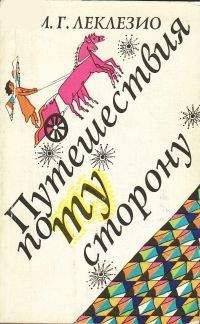Приехав в Оничу, она стала местной диковинкой. Дети ходили за ней по пыльным улицам, передразнивали, окликали на пиджине, смеялись. Она вспомнила, как в первый раз выбежала в город, без шляпы, в голубом декольтированном платье, которое надевала для вечеров на «Сурабае». Искала Молли, пропавшую два дня назад. Элайджа сказал, что видел кошку в городе, на улице рядом с Пристанью. May подходила к людям, пытаясь говорить на пиджине: «You seen cat bilong me?» По городу разнесся слух: «Не don los da nyam». Женщины смеялись. Отвечали: «No ben see da nyam!» Это было ее первое слово — nyam. Потом кошка вернулась, уже беременная. А словцо осталось, и May, проходя, слышала, как оно раздается, словно ее собственное имя: «Nyam!»
Никогда и никого она не любила, как этих людей. Они были такие незлобивые, с такими ясными глазами, такими чистыми, изящными движениями. Когда она шла городскими кварталами, направляясь на Пристань, дети подходили к ней без всякой робости, гладили по рукам, женщины брали за руку, говорили с ней на своем мягком языке, звучавшем музыкой.
Вначале это немного пугало ее — все эти взгляды, такие блестящие, руки, которые касались ее, трогали ее тело. Она к такому не привыкла. Помнила, что ей плел Флоризель на корабле. В Клубе тоже рассказывали ужасные вещи. Об исчезнувших людях, похищенных детях. О святилище Лонг Джуджу, человеческих жертвоприношениях. О кусках засоленного человеческого мяса, которые продавали на рынках в глуши. Симпсон забавы ради пугал ее, рассказывая: «В пятидесяти милях отсюда, неподалеку от Оверри, был оракул Аро-Чуку, главный оплот колдовства на западе, где проповедовали священную войну против Британской империи! Груды черепов, алтари, залитые кровью! Слышите барабаны по вечерам? А знаете, о чем они говорят, пока вы спите?»
Джеральд Симпсон насмехался над ней, над ее вылазками в город, над ее дружбой с женами рыбаков, с людьми на рынке. А после того как она заступилась за каторжников, копавших бассейн, смотрел на нее с презрением и злобой. Она вела себя не как супруга чиновника, которая прячется за своими garden-parties[42], укрывается под зонтиком, надзирая за суетой слуг. В Клубе Джеффри приходилось сносить иронический взгляд Симпсона, его колкости. Каждый знал, что положение агента компании «Юнайтед Африка» становилось все хуже и хуже из-за донесений D. О. «Каждому свое место» — таков был девиз Симпсона. Колониальное общество представлялось ему жесткой постройкой, где каждому отведена своя роль. Себе, разумеется, вместе с резидентом и судьей, он отводил самую важную роль, считал, что он тот камень, что венчает свод. «Weather cock, флюгарка!» — поправлял Джеффри. Джеральд Симпсон не мог простить May ее независимости, ее воображения. На самом деле он боялся критического взгляда, которым она смотрела на него. И решил, что они с Джеффри должны уехать из Оничи.
Отношения в Клубе становились все более натянутыми. Быть может, все ожидали, что Джеффри сам примет решение, отречется от нежелательной чужачки, отправит ее домой, в ту латинскую страну, чей акцент и манеры она сохранила вместе с чересчур смуглой кожей. Резидент Ралли пытался предупредить Джеффри. Он знал о неприязни Симпсона к May. «Вы хоть представляете себе толщину досье, которое накопилось на вас в Лондоне?» И он добавил, поскольку знал все: «Можете не сомневаться… Симпсон пишет по рапорту в неделю. Вам надо немедленно просить о переводе».
Джеффри задыхался от несправедливости. Вернулся домой подавленным: «Ничего не поделаешь. Думаю, они сами поручили ему объявить мой приговор».
Было начало сезона дождей. Большая река становилась свинцовой под тучами, ветер яростно гнул верхушки деревьев. May больше не выходила из дома во второй половине дня. Сидела на веранде, слушая, как грозы поднимаются далеко вверх, к истокам Омеруна. Зной крошил красную землю перед дождем. Воздух дрожал над железными крышами. Со своего места May могла видеть реку, острова. У нее уже не было желания ни писать, ни даже читать. Ей хотелось только смотреть, слушать, словно время не имело никакого значения.
Вдруг она поняла, что именно познала, приехав сюда, в Оничу, и никогда не смогла бы познать в другом месте. Неспешность, вот что, очень долгое и плавное движение — так река несет свои воды к морю, так плывет облако, так разливается духота послеполуденных часов, когда свет наполняет дом, а железные крыши раскаляются, словно стенки печи. Жизнь замирает, время тяжелеет. Все становится неясным, только вода течет, жидкий ствол с множеством ветвей — родников и ручьев, сокрытых в лесу.
Она вспомнила, как была нетерпелива вначале. Всерьез полагала, будто ничто и никогда не было ей так ненавистно, как этот раздавленный солнцем колониальный городишко, спящий у грязной реки. На «Сурабае» она воображала себе саванны, стада газелей, скачущих в дикой траве, леса, звучащие криками обезьян и птиц. Воображала себе голых дикарей в боевой раскраске. Авантюристов, миссионеров, изглоданных тропиками врачей, героических учительниц. В Ониче она обнаружила общество благопристойных чиновников, облаченных в нелепые костюмы и пробковые шлемы, которые убивали время, играя в бридж, выпивая и шпионя друг за другом, их жен, затянутых в корсет своих почтенных принципов, считающих денежки и сурово распекающих слуг в ожидании обратного билета в Англию. Она думала, что возненавидела навсегда эти пыльные улицы, эти бедные кварталы, лачуги, где полным-полно детей, этот народ с непроницаемым взглядом и карикатурным языком, этим пиджином, над которым так потешался Джеральд Симпсон и господа из Клуба, в то время как каторжники копали яму на холме, словно общую могилу. Никто не находил снисхождения в ее глазах, даже доктор Чэрон или резидент Ралли с его женой, такой учтивой и такой бледной, и их шавками, избалованными, как дети.
Она тогда жила ожиданием Джеффри, нервно расхаживая взад-вперед по дому, занимаясь садом или заставляя Финтана отвечать уроки. Когда Джеффри возвращался из конторы «Юнайтед Африка», лихорадочно засыпала его вопросами, на которые он не знал ответа. Ложилась поздно, гораздо позже него, под белым пологом противомоскитной сетки. Думала о ночах в Сан-Ремо, когда у них впереди была вся жизнь. Вспоминала вкус любви, рассветную дрожь. Все теперь стало таким далеким. Война стерла все. Джеффри стал другим, чужим, тем, кого имел в виду Финтан, когда спрашивал: «Зачем ты вышла за этого человека?» Он отстранялся. Уже не рассказывал о своем исследовании, о новом Мероэ. Хранил про себя. Это была его тайна.
May попыталась поговорить, понять:
— Это ведь она, верно?
Джеффри воззрился на нее:
— Она?
— Ну да, она, черная царица. Ты когда-то говорил мне о ней. Это она вошла в твою жизнь. Там для меня больше нет места.
— Глупости говоришь.
— Нет, уверяю тебя. Мне бы, наверное, надо уехать с Финтаном. Оставить тебя наедине с твоими идеями. Я тебе мешаю. Я всем тут мешаю.
Он ошеломленно посмотрел на нее, не зная, что сказать. Быть может, она и впрямь сошла с ума.
May осталась и мало-помалу вошла в тот же сон, стала кем-то другим. Все, что она пережила до Оничи: Ницца, Сен-Мартен, война, ожидание в Марселе — все стало чужим и далеким, словно это случилось с кем-то другим.
Теперь она принадлежала реке, этому городу. Знала каждую улицу, умела различать деревья и птиц, могла читать в небе, угадывать ветер, разбирать каждую подробность ночи. Знала также людей, их имена, прозвища на пиджине.
К тому же была еще Марима, жена Элайджи. По приезде она показалась May совсем ребенком, такая хрупкая и пугливая в своем новехоньком платье. Держалась в тени хижины, не осмеливаясь выйти на свет. «Боится», — пояснил Элайджа. Но мало-помалу приручилась. May усаживала ее рядом с собой на стволе дерева, служившем скамьей, перед хижиной Элайджи. Марима ничего не говорила. Не умела объясняться на пиджине. May показывала ей журналы, газеты. Мариме нравилось рассматривать фотографии, изображения платьев, рекламу. Она держала журнал немного наискосок, чтобы лучше видеть. И смеялась.
May выучила слова на ее языке. Ulo — дом. Mmiri — вода. Umu — дети. Aja — собака. Odeluede — приятно. Je nuo — пить. Ofee — мне нравится. So! — Говори! Tekateka — время идет… Записывала слова в свою тетрадку со стихами, потом читала вслух, а Марима смеялась.
Ойя тоже пришла. Сначала робко садилась на камень у входа в «Ибузун» и смотрела в сад. Стоило May приблизиться — убегала. Было в ней что-то одновременно дикое и невинное, внушавшее страх Элайдже, который считал ее колдуньей. Пытался прогнать, бросал камешками, выкрикивал ругательства.
Однажды May смогла приблизиться к ней, взяла за руку, ввела в сад. В дом Ойя входить не хотела. Садилась снаружи на землю, у лестницы на террасу, в тени земляничных гуайяв. Сидела там по-турецки, положив руки плашмя на свое синее платье. May пыталась показывать ей журналы, как Мариме, но Ойю они не заинтересовали. У нее был странный взгляд, гладкий и твердый, как обсидиан, полный какого-то незнакомого света. Веки оттянуты к вискам и очерчены тонкой каймой, совершенно как на египетских масках, думала May. Никогда она не видела столь чистого лица, таких бровей вразлет, такого высокого лба, слегка улыбающихся губ. Но главное — эти миндалевидные глаза, глаза стрекозы или цикады. Когда взгляд Ойи останавливался на May, та вздрагивала, словно этот взгляд излучал какие-то необычайно далекие и очевидные мысли, образы сна.