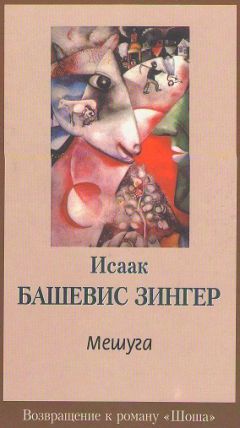— Что? Все может быть. Что произошло между тобой и раввином?
— Я опаздываю с работой. Я все погубил.
— Ты взял дополнительную работу, чтобы не ехать со мной. Ты мне не нужен, и деньги твои мне не нужны. В воскресенье утром я упакую рюкзак и пойду куда глаза глядят. Если я не уеду из этого города через несколько дней, я свихнусь. Жара сводит меня с ума. Мама сводит меня с ума. Ты сводишь меня с ума. Сколько мне еще это терпеть? Во мне все дрожит. Я еще никогда не чувствовала себя такой усталой, даже там. Там мы работали физически, а мозг отдыхал. Мы все превратились в роботов и поэтому смогли это вынести. Пока механизм не ломается, он работает. Кто упал, тот упал, а кто остался в строю, тот тянет лямку. А здесь мы расплачиваемся за все это. Я устала, смертельно устала.
— Приляг.
— Спасибо за совет. Не поможет. Ты засыпаешь, а у меня голова мелет, как мельница. Я ложусь и вспоминаю о боли, о диких выходках, о вырождении человека. А когда засыпаю, то оказываюсь рядом с ними. Они тащат меня, бьют, преследуют. Нацисты набрасываются со всех сторон, как собаки на зайца. Кто-нибудь уже умирал от кошмаров? Сны сведут меня в могилу. Подожди, пойду возьму сигарету.
Маша вышла. Герман высунулся из окна и огляделся. Матовое небо было затянуто облаками. Дерево под окном не шевелилось. В воздухе стоял запах болот и тропиков. Шарик, который называют Землей, в который раз вращался с запада на восток. Солнце мчалось куда-то со всеми своими планетами. Млечный Путь вращался вокруг своей оси — этот процесс длился сто миллионов лет — так написано в книгах. Среди этих космических происшествий он, Герман, стоял со своим узелком с реальностью, со своими краткосрочными проблемами. Достаточно веревки, капли яда, удара ножом, чтобы проблемы исчезли вместе с ним самим. Почему она не звонит? Чего она ждет? — спрашивал себя Герман. Она тоже боится горькой правды.
Маша вошла с сигаретой во рту.
— Если ты хочешь поехать со мной, я возьму расходы на себя.
— Так у тебя есть деньги?
— Займу в профсоюзе.
— Ты знаешь, что я не достоин этого.
— Не достоин. Но если нужен вор, то его снимают с виселицы…
И Маша сделала глубокую затяжку. Ее лицо на мгновение осветилось, тень лежала на нем сеткой, словно под кожей у нее были горячие угли, едва тлеющие в пепле, но готовые разгореться в ночной пожар…
III
На сей раз Герману предстояло провести выходные вместе с Ядвигой в Бруклине, а в понедельник он уезжал с Машей за город.
Он закончил главу и отнес ее раввину, получил чек и клятвенно пообещал отныне больше не опаздывать с работой. Ему повезло, что рабби Лемперт такой занятой человек. Весьма кстати у него не оказалось времени, чтобы поговорить с Германом. Раввин забрал рукопись и сразу вытащил из нагрудного кармана чековую книжку. Ему звонили по двум телефонам сразу, сегодня же ему надо было лететь в Детройт на проповедь или на бизнес-встречу. При прощании раввин покачал головой, демонстрируя сожаление и осведомленность. Казалось, он хотел сказать: «Не думай, эмигрантишка, что тебе удастся меня одурачить. Мне известно обо всех твоих проделках. Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь…» Он подал Герману не всю руку, а только два пальца.
Когда Герман уже подошел к двери, секретарша мисс Ригель позвала его:
— А что с вашим телефоном?
— Я оставил раввину адрес.
И Герман закрыл за собой дверь.
Каждый раз, когда Герман получал от раввина чек, он воспринимал это как чудо. Чтобы его обналичить, он тут же направился в банк, где знали рабби Лемперта. Сам Герман с банками дела не имел. Он носил наличные в заднем кармане брюк и все время боялся, как бы его не обокрали. Была пятница. Настенные часы в банке показывали пятнадцать минут двенадцатого. Офис раввина находился на Пятьдесят Седьмой улице, там же располагался и банк.
Герман отправился по направлению к Бродвею. «Позвонить Тамаре?» — думал он. Судя по Машиным разговорам вчера вечером, ночью и сегодня утром, не было сомнений в том, что она уже позвонила реб Аврому-Нисону Ярославеру. Теперь Маша знает, что Тамара жива. Тамара, конечно же, знает, что у него, Германа, кроме Ядвиги есть еще любовница. «Может, бросить их всех и сбежать?» Герман в который раз играл с этой мыслью. Сейчас у него почти три сотни долларов. С такой суммой можно протянуть полгода, а может, и больше.
Думая о бегстве, Герман каждый раз представлял себе примерно один и тот же план: он войдет в синагогу, ешиву или другое учебное заведение в Даунтауне и присядет подумать. Он вновь станет учеником ешивы — не потому, что верит в то, что Господь даровал евреям Талмуд или даже Тору на горе Синай, а потому, что в этих книгах приводится учение жертв, а не палачей. Евреи раскачивались над Гемарой в гетто, в тайных укрытиях. Евреи погибали за эти книги в Вормсе, в Люблине, во Франкфурте-на-Майне, в Сибири. Что бы ни говорили о Мишне, о Гемаре, о мидрашах и о Зогаре, составители этих книг не были агрессорами, жандармами, шпионами, террористами, охотниками или тюремщиками. Эти книги были написаны изгнанным народом, отказавшимся от светских ценностей. Религиозные евреи усвоили то, что проповедовали христиане.
С кем же он, Герман, мог себя идентифицировать? Невзирая на все грехи и ложь, он тоже жертва. Он не живет, а крадется тайком по этой жизни, не получает наслаждения, а лишь ворует кусочки, подбирает крошки мироздания. Даже в мыслях о Боге он, Герман, не способен выдумать никакого другого бога, кроме Бога Ицхака Лурии[57] и Баал-Шем-Това, ребе Нахмана из Брацлава[58] и реб Аврома-Нисона Ярославера.
Да, но сможет ли он действительно осуществить свои фантазии? Сможет оставить беспомощную Ядвигу без гроша в кармане? Позволит ли ему совесть усесться за Талмуд? Сможет ли он обманывать евреев, убеждая их в том, что он верующий, в то время как по их представлениям он отступник? Нет, на такое даже он не способен…
Дойдя до Бродвея, Герман зашел в аптеку позвонить, сам не зная, кому именно — Маше, чтобы спросить, знает ли она уже обо всем, или Тамаре.
— Мне конец, конец, — твердил он сам себе. — На этот раз дело выйдет мне боком, — вспомнил он Тамарино выражение.
Но почему Маша сразу не позвонила по этому номеру? Почему она завела разговор об отъезде из Нью-Йорка? Ей не хватает сил посмотреть правде в глаза? Да, что-нибудь да получится из этого безумия. Природа может порождать камни, червей или сумасшедшие выходки, из этого всегда что-нибудь получается. Всякому мусору свой веник.
Герман положил монету в аппарат и набрал номер реб Аврома-Нисона. Через некоторое время он услышал голос Шевы-Хадасы:
— Кто это?
— Говорит Герман Бродер, Тамарин муж. — Он сказал это неуверенно, с опаской.
Шева-Хадаса ответила:
— Я ее позову…
Герман не знал, сколько длилось ожидание: минуту, две, пять. Ему оно показалось долгим. Сам факт, что Тамара не сразу подошла к телефону, означает одно: Маша уже звонила.
— Шила в мешке не утаишь, — сказал себе Герман. — Нарыв лопнул.
Он услышал Тамарин голос, он несколько отличался от прежнего, чуть-чуть изменился. Герман не говорил с Тамарой по телефону лет десять и уже успел забыть, как звучит ее голос. Да и Тамара уже, как видно, отвыкла от телефона. Она спросила, не в меру повысив голос:
— Герман, это ты?
— Да, это я, — ответил Герман. — Я все еще не могу поверить в то, что это на самом деле произошло.
— Что это? Все невероятно. Я смотрю из окна на нью-йоркскую улицу. Здесь полно евреев, чтоб не сглазить. Даже слышно, как рубят рыбу.
— Да, это еврейский квартал.
— В Стокгольме тоже есть евреи, но они другие. Хорошие евреи, но уже мало похожие на нас. А здесь почти как в Каламине…
— Да, еще осталось кое-что.
Оба ненадолго замолчали. Потом Герман спросил:
— Тебе никто не звонил?
Тамара ответила не сразу:
— Кто должен звонить? У меня никого нет в Нью-Йорке. Здесь есть — как их тут называют — каламинское землячество, но оно в другом районе. Дядя поспрашивает у них, но пока…
Тамара осеклась.
— Ты не искала комнату?
— Что? У кого искать-то? Я иду в субботу в «Джойнт», может, они знают. Ты обещал позвонить вчера. — Тамара сменила тон.
— Я был занят.
— Здесь все заняты. У тебя есть немножко времени или опять куда-то спешишь?
— Нет, время есть.
— Как-то странно. В России мне было плохо, но мы были вместе и в лагере, и на лесоповале. Мы всегда были группой беженцев. В Стокгольме мы держались вместе. Здесь я впервые оказалась одна. Дядя — праведный человек, и тетя — святая, но они уже пожилые люди. Я смотрю из окна, и вокруг так пусто. Может, ты придешь? Дяди нет дома, тетя собирается за покупками. Мы могли бы поговорить.
— Хорошо, я приду.
— Приходи. Все-таки мы были когда-то близкими людьми.