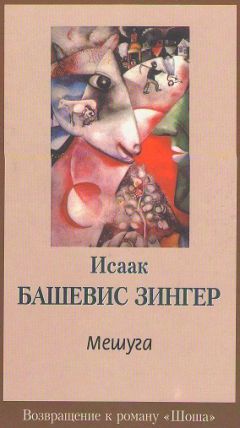— Хорошо, я приду.
— Приходи. Все-таки мы были когда-то близкими людьми.
И Тамара повесила трубку.
Герман вздрогнул: «Что ж, возьму такси…»
Он вышел на улицу и сразу поймал такси. Заработанных денег с трудом хватит на еду, но Герману надо было спешить. Он не мог опоздать к Ядвиге на целый день. Она уже ждала с нетерпением там, в Бруклине. Герман сел в такси и рассмеялся от собственной растерянности: «Да, Тамара здесь, это не галлюцинация…»
Герман давно уже не соблюдал субботу, но пятничный день для него все еще сохранял прежнее ожидание субботы. Он торопился, как в Цевкуве, словно должен был успеть вымыться и вернуться домой до зажигания свечей. В нос ему ударили запахи лепешек, жаркого и кугла из лапши. В ушах звучали мелодии и слова субботней молитвы. Леху неранено ладоной норио лецур йишеейну…[59] Что-то внутри него сожалело об отступничестве и неприкаянности. Еврейство, с которым он порвал, полностью не отпускало его, тянуло обратно. Герману часто казалось, что он слышит голос с горы Синай: шуву боним шововим[60], возвратитесь, дети-отступники… Может ли кто-то быть большим отступником, чем Герман? Даже отступникам его поведение показалось бы мятежным…
Такси остановилось, Герман заплатил и дал водителю на чай. «Все равно я банкрот», — оправдывал он свое расточительство. Герман позвонил в дверь, и Тамара открыла. Ему сразу бросилось в глаза, что Тамарины ногти больше не были красными. Видимо, она сняла лак. На ней было другое платье, уже не розовое, но темного цвета, волосы немного растрепались. Он заметил в ее прическе нити седины.
На Тамарином лице появилась улыбка — радость человека, который нетерпеливо ждал кого-то, и тот наконец пришел. Она сказала:
— Тетя уже ушла.
Герман не поцеловал Тамару при первой встрече и хотел это сделать теперь, но Тамара отстранилась.
— Я поставлю чай.
— Чай? Зачем? Я только что позавтракал.
— Я заслужила, чтобы ты выпил со мной чашку чаю, — сказала Тамара с провинциальным кокетством.
Он пошел за ней в среднюю комнату. Чайник засвистел на кухне. Должно быть, Тамара заранее поставила воду кипятиться. Хозяев квартиры не было дома, и Тамара взяла эту роль на себя. Она принесла поднос с чаем, лимоном и печеньем в вазочке, которое Шева-Хадаса наверняка испекла сама: печенье было не круглое и не овальное, а фигурное, с зазубринками, его было тяжело раскусить. Оно пахло корицей, миндалем и домашним уютом.
Герман жевал печенье. Стакан был наполнен до краев невероятно горячим чаем, из него торчала потемневшая изогнутая ложка. Некая сила собрала здесь все характерные предметы еврейского дома в Польше, вплоть до мельчайших подробностей.
Тамара села за стол не близко и не далеко от Германа, а именно так, как истинная хозяйка садится рядом не с мужем, а с близким родственником.
— Смотрю я на тебя, — сказала она, — и не верю, что это ты. Я вообще ни во что не верю. С тех пор как я приехала сюда, все утратило черты реальности.
— Там было по-другому?
— Там не было времени на размышления…
— Я живу так, с тех пор как себя помню.
— Что? Я уже почти обо всем забыла. Ты не поверишь, Герман, ночью я не спала, пыталась вспомнить, как мы с тобой познакомились и сблизились, — и не могла. Я знаю, что у нас были ссоры, но из-за чего? Жизнь сошла, как луковая шелуха. Я даже начала забывать о том, что произошло со мной в России и совсем недавно в Швеции. Мы куда-то ходили, где-то болтались. Нам выдавали бумаги, потом забирали обратно. Мамочки, сколько раз за последние недели я писала свое имя! Кому нужно столько подписей? И все с твоей фамилией: Тамара Бродер. Для них, для всех этих чиновников, я все еще твоя жена, которая носит твое имя…
— Теперь мы уже не можем быть чужими друг другу.
— Тебе этого не понять. Ты просто так говоришь, а я это чувствую. Ты быстро нашел утешение у другой — прислуги твоей матери. А ко мне приходили дети, твои дети… Герман, давай больше не будем говорить об этом! Я не хочу больше вспоминать.
— Почему нет? Они ведь и мои де…
— Да, твои. Я тебе, Боже упаси, не изменяла. Расскажи мне лучше, как тебе живется. По крайней мере, она тебе хорошая жена? Ко мне у тебя были тысячи претензий.
— Что мне от нее требовать? Она занимается тем же, что делала в качестве прислуги.
— Да? Что ж, жена — это тоже прислуга. Но все это странно, странно. Ты не выглядишь постаревшим. Ты взволнован? Что с тобой?
— Никому и не расскажешь, что со мной.
— Мне ты можешь рассказать, Герман. Во-первых, мы все же были близки. Во-вторых, я уже покинула этот мир. Я, не дай тебе Бог, мертва, а мертвому можно все рассказать. Кто знает? Может, я тебе помогу.
— Как? Я тоже мертв, как и ты. Пролежав три года на сеновале, в этот мир уже не вернешься. Здесь, в Америке, я фактически лежу на сеновале. Ты, кажется, сама сказала об этом позавчера.
— Ну, у двух мертвецов точно не должно быть секретов друг от друга.
— О чем я могу тебе рассказать? Мы уже не люди, мы человеческие останки. Как развалины, оставшиеся от гетто, обломки и ошметки. Все валяется в одной куче: шкатулка для этрога[61], детский череп и кошачий скелет.
— Давай по существу, Герман, без демагогии. То, что сделано, сделано, но почему бы тебе не найти приличный заработок? Писать для раввина — это не работа.
— А что мне здесь делать? Гладить брюки — работа не из легких, нужно вступить в юнион — так здесь называют профсоюзы. Чтобы туда попасть, нужна рекомендация, если только…
— Раз уж дети погибли, почему ты не заведешь с ней детей?
— Ах, об этом ты хочешь поговорить?
— Ну, не злись. Раз я тебе чужая, будь, по крайней мере, со мной вежлив. Все-таки нашей семье нужен наследник.
— Ты тоже, наверное, сможешь завести ребенка.
— Нет.
— Мне не нужны дети. Довольно! Зачем? Чтобы гоям было кого жечь?
— Ты прав, Герман. Ты прав. Но здесь так пусто. Так странно пусто. Я встретила здесь женщину, которая тоже была в лагерях. Она потеряла всю семью, но теперь завела нового мужа и новых детей. Некоторые люди начали жизнь заново. Дядя твердит, что мы с тобой должны поговорить и прийти к общему решению. Да простят мне эти соблюдающие евреи, но в них есть какое-то глупое упрямство. Он говорит: пусть Герман разводится с той или даст развод тебе. Дядя просто хочет обо мне позаботиться, даже намекнул, что собирается оставить мне наследство. Боже мой, у них на все один ответ: так хочет Бог. И поэтому они способны пройти сквозь ад и остаться целыми и невредимыми.
— Я не могу развестись с Ядвигой, потому что я не женился на ней по еврейскому обычаю, — сказал Герман, сам не понимая, зачем он это говорит и к чему эти слова могут привести.
— А для тебя это принципиально?
— Нет, не принципиально.
— Ты ей верен или завел еще шесть любовниц? — спросила Тамара.
Герман немного помолчал.
— Ты хочешь, чтобы я перед тобой исповедался?
— Я хочу знать правду.
— Правда в том, что у меня есть любовница.
На Тамарином лице появилась улыбка, но вскоре оно снова приняло прежнее выражение.
— Я так и знала. О чем тебе говорить с Ядвигой? Ей все как об стену горох. Она тебе не подходит. А кто твоя любовница?
— Оттуда, из лагерей.
— Почему ты не женишься на ней вместо крестьянки?
— У нее есть муж. Они разъехались, но он не дает ей развод. Он мошенник, полусумасшедший.
— Ах, вот как. У тебя ничего не изменилось. По крайней мере, ты говоришь мне правду. Или еще что-то скрываешь?
— Я ничего не скрываю.
— Мне все равно, одна у тебя, или две, или целая дюжина. Уж если ты не был верен мне, пока я была молода и красива — по крайней мере, не уродина, — почему ты должен быть верен неотесанной крестьянке? Ну, а та, любовница, довольна своим положением?
— У нее нет выбора. Муж не хочет разводиться, а она любит меня.
— А ты? Ты тоже ее любишь?
— Не могу жить без нее.
— Да уж, слышать от тебя такие слова! Какая она? Красивая? Умная? Страстная?
— Все вместе.
— Так как же ты живешь? Бегаешь от одной к другой?
— Делаю, что могу.
— Ты ничему не научился на наших несчастьях. Абсолютно ничему. Я бы, наверное, тоже не изменилась, если бы не увидела, что сделали с нашими детьми. Это был такой удар, от которого мне уже не оправиться. Меня утешали, мол, время лечит. Но происходит ровно наоборот: со временем раны становятся все глубже, они гноятся. Мне нужно найти комнату, Герман, я больше не могу ни с кем жить. От беженцев я запросто избавилась. Я их всерьез не воспринимала. Как только они стали лезть ко мне с советами и предложениями, я сказала, чтоб они сами себе морочили голову. А дяде я не могу перечить, он мне как отец. Никого ближе у меня не осталось. Тетя тоже как близкая родственница. А какой смысл разводиться? Жить я уже ни с кем не буду. Только если я тебе мешаю жениться, тогда…