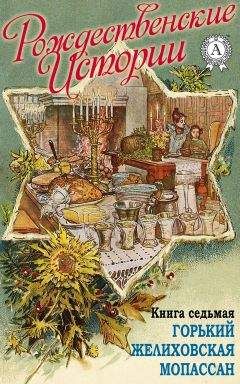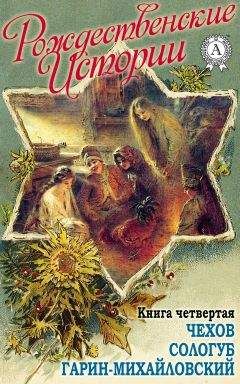Она взяла протянутую ей руку сестры и продолжала читать; голос ее дрожал, хотя она и старалась произносить слова твердо.
«Расстаться с тобою в какую бы то ни было минуту жизни между колыбелью и гробом – всегда горько. О, родной кров, верный друг ваш, так часто забываемый неблагодарными! Будь добр к покидающим тебя и не преследуй блуждающие стопы их упреками воспоминания! Если когда-нибудь образ твой возникнет перед их очами, не смотри на них ласково, не улыбайся им давно знакомою улыбкою! Да не увидят они седую главу твою в лучах любви, дружбы, примирения, симпатии. Да не поразит бежавшую от тебя знакомое слово любви! Но, если можешь, смотри строго и сурово, из сострадания к кающейся!»
– Милая Мери, не читай сегодня больше, – сказала Грация, заметив на глазах у нее слезы.
– И не могу, – отвечала Мери, закрывая книгу. – Все буквы как в огне!
Это позабавило доктора; он засмеялся, потрепавши дочь по голове.
– Как! В слезах от сказки! – сказал доктор. – От чернил и бумаги! Оно, конечно, впрочем, все выходит на одно: принимать за серьёзное эти каракульки или что-нибудь другое, равно рационально. Отри слезы, душа моя, отри слезы. Ручаюсь тебе, что героиня давным-давно возвратилась в свой родимый дом, и все кончилось благополучно. А если и нет, так что такое в самом деле родимый кров? Четыре стены – и только; а в романе и того меньше – тряпье и чернила. Что там еще?
– Это я, мистер, – сказала Клеменси, выставивши голову в двери.
– Что с вами? – спросил доктор.
– Слава Богу, ничего, – отвечала Клеменси; и действительно, чтобы увериться в этом, стоило только взглянуть на ее полное лицо, всегда добродушное, даже до привлекательности, несмотря на отсутствие красоты. Царапины на локтях, конечно, не считаются обыкновенно в числе красот, но, пробираясь в свете, лучше повредить в тесноте локти, нежели нрав, а нрав Клеменси был цел и невредим, как ни у какой красавицы в государстве.
– Со мною-то ничего не случилось, – сказала Клеменси, входя в комнату, – но, пожалуйте сюда поближе, мистер.
Доктор, несколько удивившись, встал и подошел.
– Вы приказывали, чтобы я не давала вам, – знаете, – при них, – сказала Клеменси.
Незнакомый с домашней жизнью доктора заключил бы из необыкновенных ее взглядов и восторженного движения локтей, – как будто она хотела сама себя обнять, – что дело идет, по крайней мере, о целомудренном поцелуе. Сам доктор было встревожился, но успокоился в туже минуту: Клеменси бросилась к своим карманам, сунула руку в один, потом в другой, потом опять в первый – и достала письмо.
– Бритн ездил по поручению, – шепнула она, вручая его доктору, – увидел, что пришла почта, и дождался письма. – Тут в углу стоит «А. Г.». Бьюсь об заклад, что мистер Альфред едет назад. Быть у нас в доме свадьбе: сегодня поутру у меня в чашке очутились две ложечки. Что это он так медленно его открывает.
Все это было сказано в виде монолога, в продолжении которого она все выше и выше подымалась на цыпочки, нетерпеливо желая узнать новости, и, между прочим, занималась свертыванием передника в пробочник и превращением губ в бутылочное горлышко. Наконец, достигши апогея ожиданий и видя, что доктор все еще продолжает читать, она обратно опустилась на пятки и в немом отчаянии закрыла голову передником, как будто не в силах выносить дольше неизвестности.
– Эй! Дети! – закричал доктор. – Не выдержу: я от роду ничего не мог удержать в секрете. Да и многое ли, в самом деле, стоит тайны в таком… Ну, да что об этом! – Альфред будет скоро назад.
– Скоро! – воскликнула Мери.
– Как! А сказка? Уже забыта? – сказал доктор, ущипнувши ее за щеку. – Я знал, что эта новость осушит слезы. Да. «Пусть приезд мой будет для них сюрпризом», – пишет он. Да нет, нельзя; надо приготовить ему встречу.
– Скоро приедет! – повторила Мери.
– Ну, может быть, и не так скоро, как вам хочется, – возразил доктор, – но все-таки срок не далек. Вот посмотрим. Сегодня четверг, не так ли? Да, так он обещает быть здесь ровно через месяц, день в день.
– В четверг через месяц, – грустно повторила Мери.
– Какой веселый будет это для нас день! Что за праздник! – сказала Грация и поцеловала сестру. – Долго ждали мы его, и наконец он близко.
Мери отвечала улыбкой, улыбкой грустной, но полной сестринской любви; она смотрела в лицо Грации, внимала спокойной гармонии ее голоса, рисовавшего счастье свидания, – и радость и надежда блеснули и на ее лице.
На нем выразилось и еще что-то, светло разлившееся по всем чертам, – но назвать его я не умею. То не был ни восторг, ни чувство торжества, ни гордый энтузиазм: они не высказываются так безмятежно. То были не просто любовь и признательность, хотя была и их частичка. Это что-то проистекло не из низкой мысли: от низкой мысли не просветлеет лицо и не заиграет на губах улыбка и дух не затрепещет, как пламя, сообщая волнение всему телу.
Доктор Джеддлер, назло своей философской системе (он постоянно противоречил ей и отрицал на практике; впрочем, так поступали и славнейшие философы) – доктор Джеддлер невольно интересовался возвращением своего старинного воспитанника, как серьезным событием. Он опять сел в свои покойные кресла, опять протянул ноги на ковер, читал и перечитывал письмо и не сводил речи с этого предмета.
– Да, было время, – сказал доктор, глядя на огонь, – когда вы резвились с ним, Грация, рука об руку, в свободные часы, точно вара живых кукол. Помнишь?
– Помню, – отвечала она с кротким смехом, усердно работая иголкой.
– И через месяц!.. – продолжал доктор в раздумье. – А с тех пор как будто не прошло и года. И где была тогда моя маленькая Мери?
– Всегда близ сестры, хоть и малютка, – весело отвечала Мери. – Грация была для меня все, даже когда сама была ребенком.
– Правда, правда, – сказал доктор. – Грация была маленькою взрослою женщиной, доброй хозяйкой, распорядительной, спокойной, кроткой; она переносила наши капризы, предупреждала наши желания и всегда готова была забыть о своих, даже и в то время. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь, Грация, даже в детстве, выказала настойчивость или упорство, исключая только, когда касались одного предмета.
– Боюсь, не изменилась ли я с тех вор к худшему, – сказала Грация, смеясь и деятельно продолжая работу. – В чем же это я была так настойчива?
– А, разумеется, на счет Альфреда, – отвечал доктор. – Тебя непременно должны были называть его женою; так мы тебя и звали, и это было тебе приятнее (как оно ни смешно кажется теперь), нежели называться герцогиней, – если бы это зависело от вас.
– Право! – спросила Грация спокойно.
– Неужели ты не помнишь? – возразил доктор.
– Помнится что-то, – отвечала она, – только немного. Этому прошло уже столько времени! – и она запела старинную, любимую песню доктора.
– У Альфреда будет скоро настоящая жена, – сказала она. – Счастливое будет это время для всех вас. Моя трехлетняя опека приходит к концу, Мери. Мне легко было исполнить данное слово; возвращая тебя Альфреду, я скажу ему, что ты нежно любила его все это время, и что ему ни разу не понадобились мои услуги. Сказать ему это, Мери?
– Скажи ему, милая Грация, – отвечала Мери, – что никто не хранил врученного ему залога великодушнее, благороднее, неусыпнее тебя, и что я любила тебя с каждым днем все больше и больше. О, как люблю я тебя теперь!
– Нет, – отвечала Грация, возвращая ей поцелуи, – этого я не могу ему сказать. Предоставим оценить мою заслугу воображению Альфреда. Оно не поскупится, милая Mери, так же как и твое.
Она опять принялась за работу, которую оставила было, слушая горячие похвалы сестры, и опять запела любимую старинную песню доктора. А доктор, сидя в спокойных креслах и протянув ноги на ковер, слушал этот напев, бил о колено такт письмом Альфреда, посматривал на дочерей и думал, что из множества пустяков на этом пустом свете, эти пустяки – вещь довольно приятная.
Между тем, Клеменси Ньюком, исполнив свое дело и узнав, наконец, новости, сошла в кухню, где помощник ее, мистер Бритн, покоился после ужина, окруженный такой полной коллекцией блестящих горшков, ярко вычищенных кастрюль, полированных колпаков с блюд, сверкающих котлов и других доказательств ее деятельности, размещенных на водках и на стенах, что казалось, он сидит в средине зеркальной залы. Большая часть этих вещей отражали его образ, конечно, без малейшей лести; и притом в них вовсе не заметно было согласия: в одних лицо его вытягивалось в длину, в других в ширину, в одних он был довольно благообразен, в других невыносимо гадок, смотря по натуре отражающей вещи, – точно как один и тот же факт во мнении разных людей. Но все они были согласны в том, что среди них сидит, в совершенном покое, человек с трубкою в зубах, возле кружки вина, и благосклонно кивает головой Клеменси, подошедшей к его столу.
– Каково поживаете, Клемми? – спросил Бритн, – что нового?