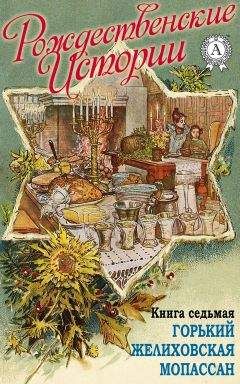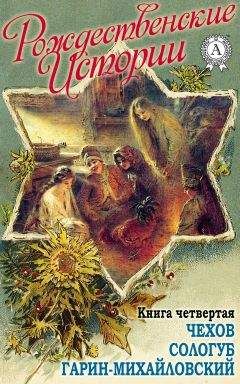– Я знаю не много, – сказала она, – очень не много; но я знаю, что этого не должно быть. Подумайте, что вы делаете!
– Я думала уже об этом не раз, – ласково отвечала Мери.
– Обдумайте еще раз. Отложите до завтра.
Мери покачала головою.
– Ради Альфреда, – сказала Клеменси с неподдельною торжественностью, – ради того, кого вы любили когда-то так сильно!
Мери закрыла лицо руками и повторила: «Когда-то!», как будто сердце у нее разорвалось на двое.
– Пошлите меня, – продолжала Клеменси, уговаривая ее. – Я скажу ему все, что прикажете. Не переходите сегодня за порог. Я уверена, что из этого не выйдет ничего хорошего. О! В недобрый час принесло сюда мистера Уардена! Вспомните вашего доброго отца, вашу сестрицу!
– Я все обдумала, – сказала Мери, быстро подымая голову. – Ты не знаешь, в чем дело, ты не знаешь. Я должна с ним переговорить. Слова твои доказывают, что ты лучший, вернейший в мире друг, но я должна сделать этот шаг. Хочешь ты идти со мною, Клеменси, – спросила она, целуя ее, – или идти мне одной?
Опечаленная и изумленная Клеменси повернула ключ и отворила дверь. Мери быстро шагнула в мрачную, таинственную ночь за порогом, держа Клеменси за руку.
Там, в темноте, он подошел к Мери, и они разговаривали долго и с жаром; рука, крепко державшая руку Клеменси, то дрожала, то холодела, как лед, то судорожно сжималась, бессознательно передавая чувства, волновавшие Meри в продолжении разговора. Они воротились; он проводил их до дверей; остановившись здесь на минуту, он схватил другую ее руку, прижал к губам и потом тихо удалился.
Дверь снова была задвинута и замкнута, и Мери снова очутилась под родимым кровом. Как ни была она молода, она не склонилась под тяжестью внесенной сюда тайны; напротив того, на лице ее сияло сквозь слезы то же выражение, которому я не мог дать названия.
Она жарко благодарила своего скромного друга – Клеменси, и уверяла ее в безусловной к ней доверенности. Благополучно добравшись до своей комнаты, она упала на колени, и – могла молиться, с бременем такой тайны на сердце! могла встать от молитвы, спокойная и ясная, наклониться над спящею сестрою, посмотреть ей в лицо и улыбнуться, хоть и грустною улыбкой! могла поцеловать ее в лоб и прошептать, что Грация всегда была для нее матерью и всегда любила ее, как дочь! Она могла лечь в постель, взять спящую руку сестры и положить ее себе около шеи, – эту руку, которая и во сне, казалось, готова защищать и ласкать ее! – могла проговорить над полуоткрытыми губами Грации: Господь с тобой! Могла, наконец, заснуть! Но во сне она вскрикнула своим невинным и трогательным голосом, что она совершенно одна, что все ее забыли.
Месяц проходит скоро, как бы он ни тянулся. Месяц с этой ночи до приезда Альфреда пролетел быстро и исчез, как дым.
Настал день, назначенный для приезда, бурный, зимний день, от которого старый дом пошатывался, как будто вздрагивая от холода; такой день, когда дома вдвое живее чувствуешь, что дома, когда сидишь у камина с особенным наслаждением, и на лицах вокруг огонька ярче играет румянец, и собеседники теснее сдвигаются в кружок, как будто заключая союз против разъяренных, ревущих на дворе стихий, – бурный, зимний день, который так располагает к веселью за запертыми ставнями и опущенными шторами, к музыке, смеху, танцам и веселому пиру!
И все это доктор припас к встрече Альфреда. Известно было, что он приедет не раньше ночи; и доктор говорил: «У нас, чтобы и ночь засветила ему навстречу! Он должен найти здесь всех старых друзей – чтобы все были на лицо!»
Итак, пригласили гостей, наняли музыкантов, раскрыли столы, приготовили полы для деятельных ног, заготовили кучу провизии разного сорта. Это случилось о святках, и так как Альфред давно не видел английского терну с густой зеленью, танцевальную залу убрали его гирляндами, и красные ягоды, горя в зелени листов, готовы были, казалось, встретить его родимым приветом.
Все были в хлопотах целый день, но больше всех Грация, душа всех приготовлений, распоряжавшаяся всюду без шума. В этот день, так же как и в продолжении всего месяца, Клеменси часто поглядывала на Мери с беспокойством, почти со страхом. Она заметила, что Мери бледнее обыкновенного, но спокойное выражение лица придавало ей еще более красоты.
Ввечеру, когда она оделась, Грация с гордостью надела на нее венок из искусственных любимых цветов Альфреда; прежнее задумчивое, почти печальное выражение с новою силою проглянуло на лице Мери, но в нем все-таки виднелось высокое одушевление.
– Следующий раз я надену на тебя свадебный венок, – сказала Грация, – или я плохая отгадчица будущего.
Мери рассмеялась и обняла сестру.
– Одну минуту, Грация. Не уходи еще. Ты уверена, что мне ничего больше не нужно?
Но она заботилась не о туалете. Ее занимало лицо сестры, и она с нежностью устремила на все свой взор.
– Мое искусство не может идти дальше, – сказала Грация, – и не возвысит твоей красоты. Ты никогда еще не была так хороша.
– Я никогда не была так счастлива, – отвечала Мери.
– И впереди ждет тебя счастье еще больше, – сказала Грация. – В другом доме, где будет весело и светло, как здесь теперь, скоро заживет Альфред с молодою женою.
Мери опять улыбнулась.
– Как счастлив этот день в твоем воображении, Грация! Это видно по твоим глазам. Я знаю, что в нем будет обитать счастье, и как рада я, что знаю это наверное.
– Ну, что? Все ли готово? – спросил доктор, суетливо вбегая в комнату. – Альфред не может приехать рано: часов в одиннадцать или около того, и нам есть когда развеселиться. Он должен застать праздник в полном разгаре. Разложи в камине огонь, Бритн. Свет бессмыслица, Мери; верность в любви и все остальное, – все вздор; но так и быть! Подурачимся вместе со всеми и встретим вашего верного любовника, как сумасшедшие! Право, у меня у самого закружилась, кажется, голова, – сказал доктор, с гордостью глядя на своих дочерей, – мне все кажется, что я отец двух хорошеньких девушек.
– И если одна из них огорчила или огорчит, огорчит вас когда-нибудь, милый папенька, простите ее, – сказала Мери, – простите ее теперь, когда сердце у нее так полно. Скажите, что вы прощаете ее, что вы простите ее, что она никогда не лишится любви вашей, и… – и остального она не договорила, припавши лицом к плечу старика.
– Полно, полно! – ласково сказал доктор. – Простить! Что мне прощать? Эх, если эти верные любовники возвращаются только тревожить нас, так лучше держать их в отдалении, выслать нарочного задержать их на дороге, не давать им в сутки делать больше двух миль, – покамест мы не приготовимся, как следует, к встрече. Поцелуй меня, Мери! Простить! Что ты за глупенькое дитя! Если бы ты рассердила меня раз пятьдесят на день, так я простил бы тебе все, кроме подобной просьбы. Поцелуй же меня! Вот так! В прошедшем и будущем – счет между вами чист. Подложить сюда дров! Иди вы хотите заморозить гостей в этакую декабрьскую ночку! Нет, у нас чтоб было светло, тепло и весело, или я не прощу кое-кому из вас!
Так весело распоряжался доктор. Затопили камин, зажгли свечи, приехали гости, раздался живой говор, и по всему дому разлилось что-то веселое и праздничное.
Гостей наезжало все больше и больше. Светлые взоры обращались к Мери; улыбающиеся уста поздравляли ее с возвращением жениха; мудрые матушки, с веерами в руках, изъявляли надежду, что она окажется не слишком молода и непостоянна для тихой семейной жизни; пылкие отцы впали в опалу за неумеренные похвалы ее красоте; дочери завидовали ей; сыновья завидовали ему; бесчисленные четы любовников наловили в мутной воде рыбы; все были заинтересованы, одушевлены, все чего-то ждали.
Мистер и мистрис Краггс вошли под ручку; но мистрис Снитчей явилась одна.
– А он что же? – спросил ее доктор.
Перо райской птицы на тюрбане мистрис Снитчей задрожало, как будто птица ожила, когда она ответила, что это, конечно, известно мистеру Краггсу, потому что ей ведь никогда ничего не говорят.
– Эта несносная контора! – сказала мистрисс Краггс.
– Хоть бы когда-нибудь сгорела! – подхватила мистрисс Снитчей.
– Он… он…. его задержало небольшое дельце, – отвечал Краггс, безпокойно поглядывая вокруг.
– Да, дельце. Пожалуйста, уж лучше не говорите! – сказала мистрис Снитчей.
– Знаем мы, что это за дельце, – прибавила мистрис Краггс.
Но они этого не знали, и от этого-то, может быть, так неистово задрожало перо райской птицы, и привески у серег мистрис Краггс зазвенели, как колокольчики.
– Я удивляюсь, что вы могли отлучиться, – мистер Краггс, сказала его жена.
– Мистер Краггс счастлив, я в этом уверена, – заметила мистрис Снитчей.
– Эта контора поглощает у них все время, – продолжала мистрис Краггс.
– Деловому человеку вовсе не следовало бы жениться, сказала мистрисс Снитчей.
И мистрис Снитчей подумала: «Я вижу насквозь этого Краггса, – он это сам знает». А мистрис Краггс заметила мужу, что «Снитчеи» надувают его за глазами, и что он это сам увидит, да поздно.