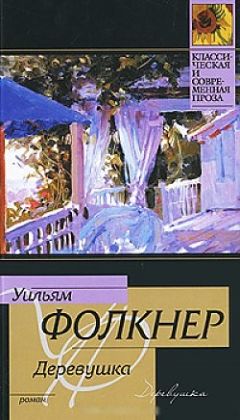Он смотрел, как горит второй вексель и медленно падает, догорая, в ящик с грязным песком, как обуглившаяся бумага свертывается и, наконец, рассыпается под носком ботинка.
Он сошел с крыльца на истоптанную пыль дороги, не пробыв в лавке и десяти минут. «Еще слава богу, что люди умеют быстро забывать то, что у них не хватает мужества исправить», — сказал он себе, идя вперед. Пустая дорога, как в мираже, мерцала в густо насыщенной пыльцою светотени весны. «Да, сказал он себе, — наверно, я был болен серьезнее, чем предполагал. Оттого и дал маху, да еще как. Ну, ничего, вот сейчас поем, и, может, мне полегчает».
Но когда он в одиночестве сел за стол и миссис Литтлджон поставила перед ним тарелку, он не мог есть. Ему казалось, что он голоден, но с каждым куском, тяжелым и безвкусным, как земля, аппетит пропадал. В конце концов он отодвинул тарелку и тут же на столе отсчитал пять долларов — свою прибыль: тридцать семь пятьдесят он получит за коз, долой двенадцать пятьдесят стоимость подряда, и двадцать за первый вексель. Огрызком карандаша он прикинул: проценты за три года по векселю на десять долларов да сами эти десять долларов (они были бы его комиссионными и, стало быть, в реальный убыток не входили), и прибавил к тем пяти долларам недостающие деньги истрепанные бумажки, стертое серебро, медяки, все, что у него было. Миссис Литтлджон была на кухне, она сама готовила для своих постояльцев, мыла посуду и убирала комнаты, в которых они спали. Рэтлиф положил деньги на стол возле раковины.
— Этот, как его… Айк… Айзек. Я слышал, вы его кормите… Стало быть, деньги ему ни к чему. Но, может быть…
— Хорошо, — сказала она. Она вытерла руки передником, взяла деньги, старательно завернула серебро в бумажки и теперь стояла, держа деньги в руке. Она даже не сосчитала их.
— Да, — сказал он. — Надо приниматься за дело. Кто его знает, когда я снова попаду в лапы голодному и ретивому молодцу, у которого нет другого средства заработать, кроме как резать по живому мясу.
Он пошел к двери, потом остановился, взглянув на нее искоса, через плечо, с тем же едва заметным лукавством на лице, но теперь уже с улыбкой насмешливой, язвительной.
— Я бы хотел передать несколько слов Биллу Уорнеру… Впрочем, это не так уж важно.
— Я передам, — сказала миссис Литтлджон. — Ежели это не слишком длинно, я не забуду.
— Да неважно… Разве только при случае. Тогда скажите ему: Рэтлиф, мол, говорит, что ничего еще не известно. Он поймет.
— Постараюсь не забыть, — сказала миссис Литтлджон.
Он вышел и сел в фургончик. Теперь пальто ему было уже не нужно, а в следующий раз и брать его с собой не придется. Дорога побежала под звонкими копытами маленьких кряжистых лошадок. «Я просто не сумел докопаться до самой сути, — подумал он. — Слишком рано отступил, Я докопался до того, что один Сноупс подожжет конюшню другого Сноупса, и оба об этом знают, — и не ошибся. Но на этом я и остановился. Я не сумел докопаться до того, что первый Сноупс вдруг возьмет да затопчет огонь, да еще со второго Сноупса деньги за это вытянет, причем и это они тоже знают оба».
Все, кто следил за действиями приказчика, увидели теперь уже не присвоение какой-то там кузницы, а настоящую узурпацию права наследования. На следующую осень приказчик не только распоряжался у весов, но, когда подошел срок сводить годовые счета между Уорнером и его арендаторами и должниками, сам Билл Уорнер при этом даже не присутствовал. Сноупс делал теперь то, что Уорнер даже родному сыну ни разу не доверил, — сидел один за конторкой над счетными книгами и наличностью, вырученной за проданный урожай, подводил счета, вычитал арендную плату и выплачивал из оставшихся денег каждому, его долю, причем двое или трое стали было оспаривать правильность его расчетов, возможно, только из принципа, как когда-то, когда он впервые переступил порог лавки, но приказчик их даже не слушал, просто сидел в своей измаранной белой рубашке и крошечном галстуке, с неизменной жвачкой во рту и мутными, неподвижными глазами, так что никогда нельзя было понять, смотрят они на тебя или нет, сидел и ждал, пока они кончат, замолчат, и тогда, не говоря ни слова, брал карандаш и бумагу и доказывал им, что они не правы. Теперь уже не Джоди Уорнер, неторопливо входя в лавку, давал приказчику распоряжения и указания, которые тот должен был исполнять; теперь уже бывший приказчик, поднимаясь на крыльцо, небрежно кивал людям на галерее, точь-в-точь как, бывало, сам Билл Уорнер, входил в лавку, и оттуда сразу же доносился его голос, деловитый и отрывистый, перекрывая раздраженный бычий рев человека, который прежде был его хозяином, и, казалось, так и не мог понять, что же все-таки произошло. Потом Сноупс уезжал и больше в этот день не показывался. У старой белой кобылы Билла Уорнера теперь появился спутник — чалый, на котором прежде ездил Джоди, Белая кобыла и чалый конь стояли бок о бок, привязанные к одной загородке, пока Уорнер и Сноупс осматривали посевы хлопка и кукурузы, или стада, или межи арендных участков; Уорнер — бодрый, неугомонный, как сверчок, хитрый и безжалостный, как сборщик налогов, праздный и хлопотливый раблезианец, и с ним тот, другой, — руки в карманах неописуемых мешковатых серых штанов, а сам жует свою неизменную жвачку и время от времени задумчиво выплевывает похожие на пули сгустки шоколадной слюны. Однажды утром он привез новехонький плетеный чемодан. Вечером того же дня он отнес этот чемодан к Уорнеру. А через месяц Уорнер купил новую легкую коляску на ярко-красных колесах, с бахромчатым верхом, и она целыми днями носилась по глухим проселочным дорогам и дорожкам — жирная белая кобыла и крупный чалый конь в новой, отделанной медью сбруе, колеса так и алеют, спиц не видно, а Уорнер и Сноупс — просто невероятно! — сидя рядом, над облаком легкой, клубящейся пыли, летят вперед в стремительном, безостановочном движении. И вот однажды, этим же летом, Рэтлиф снова подъехал к лавке и увидел на галерее лицо, которое в первый миг не узнал, так как видел его только один раз и к тому же два года назад, но только в первый миг, потому что сразу же крикнул: «А, здравствуйте! Ну, как машина, работает?» — и, сидя в фургончике с видом приветливым и совершенно непроницаемым, глядел на злобное, упрямое лицо со сросшимися бровями, припоминая: «Как же его? Такое имя, вроде собачьей клички… Ах, да — Минк».
— Здор'ово, — сказал тот. — Работает, а что? Сами же хвастались, что плохих не держите.
— Ну конечно, — сказал Рэтлиф, все такой же приветливый, непроницаемый. Он слез с козел, привязал лошадей к столбу и поднялся на галерею, где сидели четверо. — Только я бы не так сказал. Я бы сказал, что Сноупсы плохих не берут.
Тут он услышал стук копыт, обернулся и увидел коня, скакавшего во весь опор, а рядом с ним легко и резво бежала породистая собака, а потом Хьюстон осадил коня, соскочил, еще не остановившись, бросил поводья ему на голову, как делают на Западе, поднялся на крыльцо и встал против того столба, у которого сидел на корточках Минк Сноупс.
— Я думаю, ты знаешь, где твоя корова, — сказал Хьюстон.
— Догадываюсь, — сказал Сноупс.
— Вот и хорошо, — сказал Хьюстон. Он не дрожал, не трясся от злости, но это была неподвижность динамитной шашки. Он даже голоса не повысил. — Я тебя предупредил. Ты знаешь, какой у нас здесь закон. Когда поля засеяны, скотину нужно держать на привязи, а не то будешь отвечать по суду.
— А вы бы поставили загородку, моя корова к вам бы и не забрела, сказал Сноупс.
А потом они стали осыпать друг друга ругательствами, крепкими, короткими и бесстрастными, как удары или револьверные выстрелы, не слушая друг друга, не двигаясь с места — один на крыльце, другой на корточках у столба.
— А вы из ружья попробуйте, — сказал Сноупс. — Может, так вы ее скорее прогоните.
Хьюстон вошел в лавку, а пятеро на галерее спокойно стояли или сидели на своих местах, и человек со сросшимися бровями был так же спокоен, как остальные, а потом Хьюстон вышел, ни на кого не глядя, сошел с крыльца, вскочил в седло и ускакал, сильный, неутомимый, высокомерный, и собака побежала следом за ним, а через минуту-другую Сноупс тоже встал и ушел пешком. Тогда один из оставшихся наклонился и осторожно сплюнул через перила, в пыль, а Рэтлиф сказал:
— Что-то я не совсем разобрал насчет этой загородки. Я так понял, что Сноупсова корова забрела на поле к Хьюстону.
— Правильно, — сказал тот, который только что сплюнул. — Сноупс живет на бывшей Хыостоновой земле. Теперь она принадлежит Биллу Уорнеру. Была в закладе, и Уорнер прибрал ее к рукам с год назад.
— Уорнеру Хьюстон и задолжал, — сказал другой. — И говорил он про загородку на этом участке.
— Понимаю, — сказал Рэтлиф. — Это, значит, просто так. К слову пришлось.