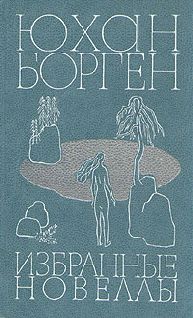Он смотрел на Селину, сидящую перед очагом, на ее величавую отрешенность в кругу загипнотизированных людей, которые так охотно подпадали под влияние рассуждений Роберта и собственных спасительных мыслей. А о чем думала она? Не была ли она единственным на земле человеком, который мог себе позволить не думать вообще ни о чем?
Наверное, так оно и есть. В глубинах ее души, быть может, даже и нет темных источников, разве что воспоминания о каких-нибудь ужасах, перешитых в детстве, отчего при утреннем пробуждении у нее всегда такой испуганный взгляд. И больше ничего. Никаких дебрей, из которых не можешь выбраться. Может быть, сию минуту плюс сию минуту плюс сию минуту и исчерпывают для нее действительность. Многие стремятся к такому состоянию души, но его нелегко достичь...
...Может, лишь ей одной, орхидее, возросшей на навозной куче, – лишь ей одной доступно уподобиться полевым лилиям...
...А в мире совершались роковые события. Было время, когда казалось: наконец устала даже сама война, сами злые силы впали в дремоту. Но теперь пошли слухи, что немцы готовят решающее весеннее наступление на Париж. Мир содрогнется, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Впрочем, может статься, был в этих событиях и другой смысл, и не каждому дано его понять. Норвежцы жили в стране, которая стояла в стороне от происходящего, от того, о чем они читали. Они отмахивались от прочитанного и смотрели не вперед, в будущее, а вокруг.
Несомненно было одно: что-то идет к концу, к тому или иному концу. Маленькое, местное, выросло и стало важным, а крупное, далекое, стало маленьким. Никто ничего не знал, но все ловили предвестья. Ловили их у домашнего очага, в веселых и не очень веселых компаниях, словно дети, которые грызут ногти перед грозой. Толковали о предстоящем плавании Руала Амундсена на «Мод» и, может, мечтали, уподобившись ему и его спутникам, убежать подальше от окружающего, хоть на Северный полюс. В тысячах домов люди читали «Соки земли» и говорили, что великий писатель прав – надо вернуться к земле, спуститься с облаков, отказаться от вымыслов и мечтаний. Людям нечего витать в облаках, во всяком случае теперь, когда облака лишились золотого ореола, они нависли низко, в них чудилась угроза, и края их потемнели. Дядя Мартин считая, что надо делать ставку на заключение мира – единственное, от чего можно ждать добра.
Об этом он произнес речь в день совершеннолетия Вилфреда. Этот день был отпразднован ленчем в самом тесном семейном кругу на Драмменсвей, а позднее – ужином в самом широком кругу в мастерской па Слоттсгате.
За ленчем, как и в былые времена, собрались все те же родственники, кроме тети Шарлотты, которая заболела испанкой и только прислала поздравление. Даже колдовские руки дяди Рене не могли наколдовать веселого настроения. Дядя Рене скорбел о своем дорогом Париже, он собирался поехать туда через Англию, чтобы быть вместе с любимым городом, когда придет час его гибели. Несвойственный дяде Рене пафос, как это ни странно, ни у кого не вызвал улыбки. У родных пропала охота подтрунивать над ним. Они вдруг поняли: если бы не болезнь тети Шарлотты, он бы и в самом деле уехал.
И позднее в мастерской, несмотря на свою нарочитую веселость, Вилфред не мог избавиться от тяжелого чувства. Тут собрались славные, безответственные люди, маленькие актеришки от Максима, в широте душевной они принесли пирожные; пришли его приятели по Халлингдалу, ресторанные собутыльники. Все это были случайные знакомцы, и поэтому Вилфред чувствовал себя свободно в их компании. К ночи явились приятели побогаче с шампанским в чемодане, как и подобает праведникам накануне Страшного суда. Все, что они затевали, возвещало близящийся крах.
Виновник торжества Вилфред знал, что чествование было лишь поводом собраться. Это было удобно и ни к чему не обязывало. Гости потребовали, чтобы он произнес речь, – это его устраивало тоже. Можно было всласть поиронизировать над всем на свете. В мире все шло шиворот-навыворот. Под самое рождество разразился страшный снегопад, а потом вдруг в Христианию на целую неделю пришла буйная весна. В саду на Драмменсвей даже расцвели крокусы. По возвращении из Робертовой гостиницы на сетере Вилфред с удовольствием поработал в материнском саду. Было что-то притягательное в этой непутевой весне. Она была созвучна царившей вокруг смуте. Почему бы зимой не наступить весне? Почему бы не погибнуть нескольким крокусам, когда на море гибнут и гибнут люди? Это уже не тревожит ничью совесть, а только напоминает о громадном крушении, которое суждено каждому, едва только на рынке всерьез почувствуется страх перед заключением мира.
В своей речи на празднике в мастерской Вилфред упомянул об этом и еще о многом другом. Гостей это покоробило. Он упомянул о крокусе, и это их озадачило. Он пролил несколько крокодиловых слезинок по поводу участи моряков, и тут они обозлились. Все эти грюндеры и ловцы удачи, среди которых ему так нравилось бывать, в глубине души весьма почитали мораль. Прежде чем низвергнуться в хаос разорения или попасть под надежную защиту тюремных стен, они хотели водрузить над своей жизнью знамя благопристойности. Среди них не один только бедняга Дамм имел дело с кораблями, которые никогда не были спущены на воду. Они приличия ради цеплялись за свое сострадание к норвежским морякам, смутно подозревая, что то жизнью и смертью своей оплачивали их бешеные деньги.
Нынешняя зима не имела ни начала ни конца. В своей речи Вилфред говорил и об этом. О чем он только ни говорил, рассеянно наблюдая за смущенными лицами гостей, которые в последних потугах вежливости ждали, чтобы их хозяин, он же почетный гость, замолчал и дал им возможность поговорить самим. Ибо возможность поговорить всего дороже ценилась в эти времена, когда тот, кто молчал и слушал, неизбежно предавался мрачным мыслям.
Но Вилфред долго еще мучил своих гостей, сидевших за уставленным яствами праздничным столом в доме, который эти люди считали обителью искусства и духовной жизни. Мукой этого краткого молчания он хотел развеять в прах их беспечность, пусть сорвут ослепляющие их шоры и тем свободнее окунутся потом в безудержную оргию. Его выступление напоминало речь, которую перед экзаменами произносил директор школы в душном гимнастическом зале, перенасыщенном ожиданием каникул. Ну и пытка была – выслушивать его разглагольствования, когда из верхнего окна, которое приоткрывали, чтобы толпа изнывающих от нетерпения учеников не задохнулась, явственно доносилось пение скворца. Вилфред посмотрел на склоненную голову Селины, сидевшей как раз против него, на стыке составленных столов. Он пробирался сквозь нагромождение образов, натужная изысканность которых возрастала вместе с его желанием причалить наконец к берегу. Подумав: «А можно ли высказать такую мысль, которая огорчит или обрадует ее?..» – он посмотрел на ее склоненную шею. Нет, не найти таких слов, которые бы ее проняли. Всей своей повадкой она как бы говорила о том; что превратности судьбы неизбежны. Быть может, она даже не проводила грани между радостными и печальными ожиданиями.
Но позади удрученных лиц в глубине комнаты в облаках табачного дыма у очага Вилфред различал закрытый мольберт. Теперь он ненавидел свою картину. Вот где истоки его нелепого поведения – попытка абстрагировать явления в абсолютную систему, которая от подлинного художника требует полной самоотдачи, а для него, дилетанта, означает трусливую попытку ухода от той или иной самоотверженной деятельности, которая с девяти до четырех часов отвлекает человека от сознания хаоса, изнуряя его здоровой, добропорядочной усталостью. Однажды он станет ученым мужем и ученостью перещеголяет всех прочих ученых мужей. В один прекрасный день всю свою тягу к организующей ясности он направит, точно свет прожектора, на искусство других. Не созданные им картины украсят его подобающим трагическим ореолом, он не доверит своего Моцарта ни одной клавиатуре, но зато направит анафему слепящего света на исполнителей, которые превзошли его самого, каким он был в ту пору, когда еще о чем-то мечтал.
Вилфред говорил и об этом, а взгляд его настороженно скользил по тем, кто слушал невнимательно, – он хотел принудить их ко вниманию в эти последние минуты. Он испытывал болезненное наслаждение властелина, терзая их своими разглагольствованиями. Может, его словеса отмечены гениальностью, а может, они – чистейший вздор. Его гости не могут этого знать – и потому молчат и задумчиво и вежливо кивают, подавляя нетерпение. Казалось, сама зима стала близиться к концу, пока он произносил эту бесконечную речь обо всем на свете, которая была так изнурительно эгоцентрична в своей кокетливой скромности, что только он сам мог до конца измерить всю глубину своего предательства. Казалось, он все говорит и будет говорить вечно, а тем временем на смену зиме придет весна, а потом и лето, а потом снова пожелтеют и увянут листья на деревьях, кроны которых пока еще стоят в снегу...