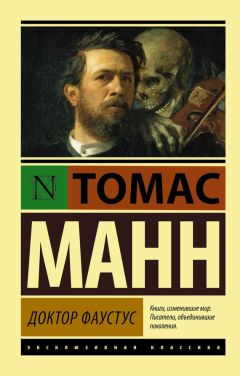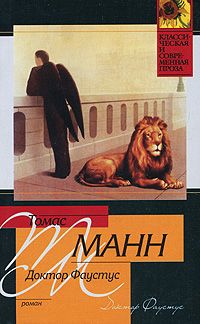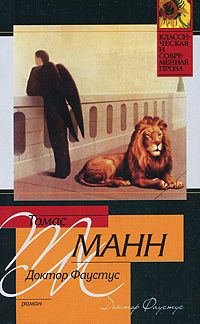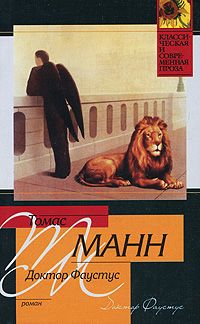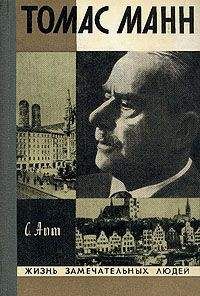Так он говорил. И нет слов описать, как эта манера выражаться — смесь интеллектуальной сдержанности с некоторой лихорадочностью — трогала меня; трогала потому, что он замечал эту лихорадочность и стыдился ее; невольно слышал тремоло в своем еще по-мальчишески ломающемся голосе и, покраснев, отворачивался.
Могучий поток музыкальных познаний и взволнованной творческой приобщенности ворвался тогда в его жизнь, чтобы потом на долгое время, по крайней мере с виду, остановиться.
В последний год своего пребывания в гимназии Леверкюн, помимо всего прочего, начал еще заниматься (я этого не делал) необязательным предметом — древнееврейским языком, тем самым отчасти обнаружив свои планы на будущее. Выяснилось (я сознательно повторяю выражение, сорвавшееся у меня с языка, когда я рассказывал о минуте, в которую он случайно оброненным словом открыл мне свою внутреннюю религиозную жизнь) — выяснилось, что он намерен изучать богословие. Приближающийся выпускной экзамен требовал решения, выбора факультета, и он объявил, что выбор сделан: объявил в ответ на настойчивые расспросы дядюшки, который, услышав это, высоко поднял брови и воскликнул «браво!»; об этом же Адриан сообщил и своим родителям в Бюхель, принявшим известие с еще большим удовлетворением. Мне он рассказал о своем решении раньше, причем дал понять, что изучение богословия считает подготовкой не к практическому церковному и пастырскому служению, но к академической деятельности.
Последнее должно было послужить, да и послужило мне своего рода утешением, ибо представить себе его пастором, обер-пастором или даже консисториальным советником и генерал-суперинтендантом я положительно был не в состоянии. Будь он хоть католиком, как мы! Его вполне вероятное быстрое восхождение по иерархическим ступеням римской церкви мне бы казалось более счастливым, более подобающим ему жребием. Но то, что он решил сделать своим призванием лютеранское богословие, явилось для меня в некотором роде шоком, и я, кажется, даже переменился в лице, услышав об этом. Почему, спрашивается? Я ведь затруднился бы сказать, какую ему следует избрать профессию. С моей точки зрения, ни одна не была достаточно хороша для него, иными словами: мещанская, эмпирическая сторона любого профессионального занятия казалась мне его недостойной, и я напрасно ломал себе голову, стараясь представить себе Адриана за практическим каждодневным выполнением тех или иных профессиональных обязанностей. «За него» я был честолюбив абсолютно, и все-таки мороз пробежал у меня по коже, когда я понял — очень ясно понял, — что его выбор определило высокомерие.
Как-то раз мы с Адрианом пришли к выводу, вернее, порешили на основании часто нами высказывавшихся взглядов, что философия — царица всех наук. Среди них, заключили мы, она занимает приблизительно такое же место, как орган среди музыкальных инструментов. Она их обозревает, сводит в духовное единство, систематизирует и проясняет результаты исследования во всех областях науки, тем самым создавая картину мира, всеобъемлющий и законополагающий синтез, определяющий смысл жизни и место человека в Космосе. Мысли о будущем моего друга, о его профессии всегда вызывали во мне представление о такой синтезирующей деятельности. Многообразные устремления Адриана, заставлявшие меня опасаться за его здоровье, его жажда знания, неизменно сопровождавшаяся критическим анализом, оправдывали эту мечту. Универсализм философа и историка культуры — вот что казалось мне единственно подходящим для него, дальше мое воображение не шло. И вот теперь я узнаю, что он втихомолку возмечтал о большем, что втайне, конечно, и виду не подавая, — ибо его решение было высказано в спокойных, заурядных словах, — он превзошел, посрамил мое дружеское честолюбие.
Если хотите, есть все же дисциплина, в которой сама царица — философия — обращается в служанку или, выражаясь академическим языком, во вспомогательную науку, и эта дисциплина — богословие. Там, где любомудрие восходит к созерцанию высшего существа, первоисточника бытия, к учению о Боге и божественном, надо полагать, достигается вершина научного достоинства, высшая, благороднейшая сфера познания, наивысшая точка мышления. Одушевленному интеллекту там поставлена возвышеннейшая цель — возвышеннейшая, ибо светские науки, к примеру, моя собственная, филология, или, скажем, история, всего лишь орудие познания священного, — цель, которую преследуют с глубоким смирением, потому что она, как гласит Святое Писание, «превыше разума», и дух человеческий здесь налагает на себя оковы более благочестивые, чем оковы узкоспециальной науки.
Все это пронеслось у меня в мозгу, когда Адриан сообщил мне о своем решении. Если бы он принял в силу какого-то инстинкта духовного самообуздания, в силу потребности умиротворить в религии, склонить перед нею свой холодный, всеобъемлющий, все легко охватывающий, избалованный первенством интеллект, то мне нечего было бы возразить. Это бы не только успокоило постоянно точившую меня смутную тревогу за него, но я был бы еще и глубоко растроган, так как sacrificium intellectus, жертвоприношение разума, неизбежное следствие созерцательного познания потустороннего мира, должно цениться тем выше, чем сильнее интеллект, его приносящий. Но в глубине души я не верил в смирение моего друга. Я верил в его гордыню, которою я, со своей стороны, гордился, и знал, что она — источник его решения. Отсюда смесь радости и страха, заставившая меня похолодеть при этом известии.
Он видел мое смятение и, видимо, приписал его мысли о третьем среди нас, об учителе музыки.
— Ты, верно, думаешь, что это будет разочарованием для Кречмара? Я знаю, он бы хотел, чтобы я всецело предался Полигимнии. Странно, почему это люди всегда стремятся и других вести по своему пути? Склонности ведь у всех разные. Но я напомню ему, что через свою историю, через литургию, музыка, можно сказать, переплетается с богословием действеннее, сложнее, чем физико-математические науки с акустикой.
Говоря о своем намерении сказать обо всем Кречмару, он, собственно, адресовался ко мне, что я, конечно, заметил и потом, уже наедине с собою, долго об этом размышлял. Разумеется, думал я, по отношению к науке о Боге и служении ему все мирские науки, равно как и искусства, и прежде всего музыка, носят служебный, вспомогательный характер, и эта пришедшая мне в голову мысль, несомненно, стояла в связи с диспутами, которые мы вели о судьбе искусства, с одной стороны, вечно толкающего нас вперед, с другой — отягощающего нас печалью, о его эмансипации от культа, о культурном его обмирщении. Мне было ясно: желание для себя лично, для будущей своей профессии низвести музыку к тому состоянию, в котором она, как он считал, пребывала в лучшие времена, во времена своей неразрывности с культом, определило его выбор жизненного пути. Музыку, наравне со светскими науками, он хотел видеть ниже той сферы, адептом которой становился, и перед моим внутренним взором, как бы олицетворяя его точку зрения, вдруг возникло некое подобие барочного алтарного образа, на котором все искусства и науки раболепно склоняются перед апофеозом богословия. Адриан громко расхохотался, когда я рассказал ему об этом видении. Он пребывал тогда в отличнейшем расположении духа и любил пошутить — да и неудивительно: ведь нет в жизни мига более счастливого, волнующего, чем тот, когда птенец вылетает из гнезда, когда брезжит свобода, захлопывается дверь школы и мы, покинув старое здание, где росли и воспитывались, входим в мир, простирающийся перед нами. Благодаря музыкальным экскурсиям с Кречмаром в соседние города Адриан уже успел чуть-чуть пригубить мирских далей; теперь Кайзерсашерну, городу ведьм и чудаков, где имелся уже известный нам склад музыкальных инструментов да императорская гробница в соборе, предстояло навек отпустить его. Отныне только гостем, улыбаясь, как человек, повидавший и многое другое, будет он изредка проходить по его улочкам.
Но сбылось ли это? Отпустил ли его Кайзерсашерн? Не оставался ли при нем, куда бы дороги ни вели Адриана, и не Кайзерсашерн ли определял эти дороги, когда Адриан полагал, что сам выбирает их? Что есть свобода? Только равнодушие. Характерное не бывает свободным, оно отчеканено своим чеканом, обусловлено и сковано. Разве не Кайзерсашерн проглядывал в самом решении моего друга изучать богословие? Адриан Леверкюн и этот город — ну, разумеется, вместе это дало богословие! Позднее я задавался вопросом: чего же иного я ждал? Впоследствии Адриан сделался композитором. Но если и очень смелой была музыка, которую он писал, то была ли она «свободной», всемирной музыкой? Нет, не была. Ее создал тот, кто так и не вырвался на свободу, и она, вплоть до потаеннейшего гениального шутовского переплетения, в каждом своем таинственно-зашифрованном звуке и вздохе оставалась характерной немецкой музыкой, музыкой Кайзерсашерна.