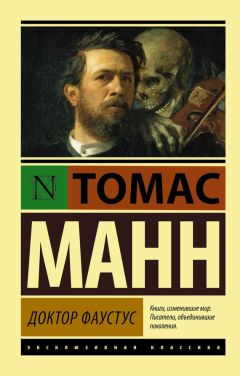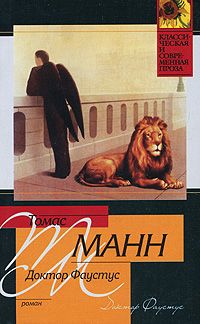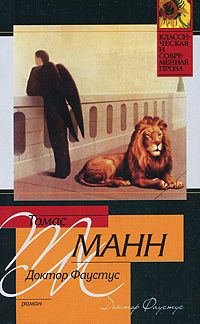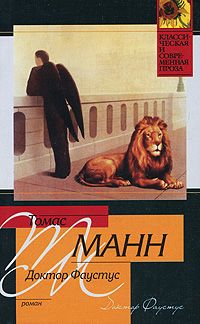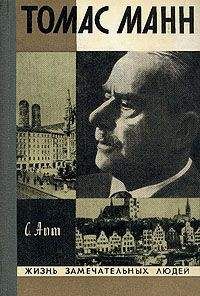Но сбылось ли это? Отпустил ли его Кайзерсашерн? Не оставался ли при нем, куда бы дороги ни вели Адриана, и не Кайзерсашерн ли определял эти дороги, когда Адриан полагал, что сам выбирает их? Что есть свобода? Только равнодушие. Характерное не бывает свободным, оно отчеканено своим чеканом, обусловлено и сковано. Разве не Кайзерсашерн проглядывал в самом решении моего друга изучать богословие? Адриан Леверкюн и этот город — ну, разумеется, вместе это дало богословие! Позднее я задавался вопросом: чего же иного я ждал? Впоследствии Адриан сделался композитором. Но если и очень смелой была музыка, которую он писал, то была ли она «свободной», всемирной музыкой? Нет, не была. Ее создал тот, кто так и не вырвался на свободу, и она, вплоть до потаеннейшего гениального шутовского переплетения, в каждом своем таинственно-зашифрованном звуке и вздохе оставалась характерной немецкой музыкой, музыкой Кайзерсашерна.
Он, как я уже говорил, был очень оживлен и весел тогда, да и что удивительного! От устного экзамена его освободили на основании отличных и вполне зрелых письменных работ, он дружелюбно распрощался с учителями, у которых уважение к избранному им факультету оттеснило на задний план давнишнее недовольство его небрежительным отношением к наукам. Тем не менее почтенный директор гимназии «Братьев убогой жизни», доктор Штойентин, преподававший Адриану греческий, средневерхненемецкий и древнееврейский языки, не преминул вспомнить об этом во время прощальной аудиенции, когда они остались с глазу на глаз.
— Vale[27], — сказал он, — и Господь да пребудет с вами, Леверкюн! Это напутствие я произношу от всего сердца и, независимо от того, согласны вы со мной или не согласны, считаю, что оно вам пригодится в жизни. Вы человек высокоодаренный и знаете это, да и как же вам не знать? И верно, знаете также, что благословил вас этими дарами Господь Бог, который есть всему начало, ибо ему вы собираетесь посвятить их. Вы сделали правильный выбор, прирожденные заслуги — это заслуги Господа, мы тут ни при чем. Хотя сатана, сам погубивший себя своей гордыней, тщится заставить нас об этом забыть. Худой гость, лев рыкающий, он бродит меж нами, ища себе добычу. Вы из тех, у кого есть причины сугубо остерегаться его происков. Я вам сейчас сказал комплимент, вам, какой вы есть Божьей милостью. Так будьте же им в смирении, мой друг, а не в гордыне и высокомерии, и не запамятуйте, что самодовольство равносильно отречению от Господа Бога, неблагодарности к Всеблагому!
Вот как напутствовал его бравый педагог, под началом которого я впоследствии еще учительствовал в гимназии. Адриан с улыбкой рассказал мне об этом отпущении с миром во время одной из очередных наших прогулок по полям и лесам в окрестностях хутора Бюхель. Ибо там, по окончании гимназического курса, он в течение нескольких недель наслаждался полной свободой, меня же добрые его родители пригласили составить ему компанию. Я отлично помню разговор, который мы вели на ходу о предостережении Штойентина, и прежде всего о необычном речевом обороте — «прирожденные заслуги», к которому он прибег в своем прощальном назидании.
Адриан заметил, что этот оборот он позаимствовал у Гёте, часто и охотно говорившего о «прирожденных заслугах»; зачеркивая этим парадоксальным словосочетанием моральный характер слова «заслуги», он, напротив, прирожденное возвышал до заслуги внеморальной, аристократической. Потому-то на требование скромности, всегда исходящее от убогих по природе людей, Гёте отвечал: «Только негодники скромны!» Но директор Штойентин употребил слово Гёте скорее в духе Шиллера, для которого всего дороже была свобода, почему он и усматривал моральное развитие между талантом и личной заслугой и, в то время как для Гёте заслуга и счастье были нераздельны, резко разделял их. Вот так же и директор — природу он назвал Богом, а врожденный талант определил как заслугу, то есть дар Божий, который нам надлежит приять со смирением.
— Немцам, — сказал новоиспеченный студент, держа травинку в зубах, — свойственно какое-то двухколейное и непозволительно комбинаторское мышление, вечно им подавай и то и это, — словом, все. Они способны смело открывать прямо противоположные принципы мышления и бытия в великих личностях. Но затем они все валят в одну кучу, понятия, отчеканенные одним, используют в духе другого, все путают и полагают, что могут свести воедино свободу и аристократизм, идеализм и верность природе. А это ведь, пожалуй, невозможно.
— В них есть и то и другое, — возразил я, — иначе им бы не удалось породить тех двоих. Богатый народ…
— Путаный народ, — настойчиво повторил он, — и других сбивают с толку.
Вообще же мы редко философствовали в ту идиллическую, неомраченную пору. Адриана куда больше тянуло к проказам и смеху, чем к метафизическим беседам. О его любви к смешному, потребности в смешном и склонности к хохоту, хохоту до слез, я уже упоминал выше, и, право же, я был бы повинен в фальши, если б эта резвая веселость для читателя не слилась с его характером. О юморе и говорить не хочу; на мой слух, это слово звучит слишком по-домашнему, слишком умеренно, чтобы на нем останавливаться. Смешливость Адриана я воспринимал скорее как своего рода прибежище, как вакхическую, мне всегда малоприятную и чуждую разрядку той жизненной суровости, которую порождает из ряда вон выходящая одаренность. Теперь эта смешливость и вовсе вырвалась на простор, — воспоминания о школьной жизни, с которой было покончено навсегда, комические фигуры, встречавшиеся среди соучеников и учителей, первые шаги на поприще «наук», провинциальные оперные спектакли, где, ничуть не нарушая святости самого творения, происходило немало забавных нелепостей. Так, например, в «Лоэнгрине» король Генрих оказался кривоногим и толстым, а его оглушительный бас вырывался из круглого темного провала, окаймленного пышной бородой. Адриан покатывался со смеху, вспоминая эту фигуру, но то, конечно, всего лишь случайный пример и, пожалуй, слишком конкретный повод к его «запойному» смеху. Смех этот нередко бывал куда более беспредметным — чистое чудачество, и, признаюсь, мне было очень нелегко ему вторить. Не такой уж я охотник смеяться, и когда Адриан корчился от смеха, мне поневоле вспоминалась история, которую я от него же и узнал. Она была взята из «De civitate Dei»[28] святого Августина и рассказывала о том, что Хам, сын Ноя и отец волшебника Зороастра, был единственным человеком, который смеялся, рождаясь на свет, что могло произойти лишь с помощью сатаны. Это превратилось для меня в какое-то назойливое воспоминание, но и еще много других причин не позволяли мне присоединиться к его хохоту, — хотя бы то, что я относился к Адриану слишком серьезно и, глядя на такие приступы смеха, не мог освободиться от тревожных опасений. К тому же в силу известной сухости и чопорности моей натуры я был не приспособлен к такой разнузданной веселости.
Позднее он нашел себе лучшего партнера в лице англиста и писателя Рюдигера Шильдкнапа, с которым свел знакомство в Лейпциге и к которому я всегда немного ревновал Адриана.
В Галле на Заале богословские и филолого-педагогические традиции прочно сплелись воедино, и прежде всего в образе славного Августа Германа Франке, святого заступника города и, так сказать, пиетистского его просветителя, который в конце семнадцатого столетия, следовательно, вскоре после основания университета, учредил в Галле школы и сиротские дома, стяжавшие известность под названием «Франковых богоугодных заведений», и таким образом соединил в своем лице и в своей деятельности благочестие с лингвистикой и гуманитарными науками. Разве Канштейновское библейское общество, впервые подвергшее компетентной ревизии Лютеров перевод Библии, не является счастливым сочетанием религиозной и текстологической мысли? Помимо всего прочего, в Галле тогда подвизался выдающийся латинист, Генрих Озиандер, курс лекций которого я очень хотел прослушать; вдобавок Адриан мне сказал, что семинар профессора доктора Ганса Кегеля по истории церкви изобилует общеисторическими сведениями, а я смотрел на историю как на важнейшую вспомогательную дисциплину для студента-филолога.
Итак, мое решение после двух семестров в Гисене и Иене прильнуть к груди alma mater Hallensis[29] было вполне оправданно, тем более что этот университет пленял наше воображение своим тождеством с университетом в Виттенберге, ибо при вторичном открытии после наполеоновских войн они были слиты воедино. Леверкюн уже полгода числился в матрикулах Галле, когда я туда перебрался. Не буду отрицать, что пребывание Адриана в этом городе сыграло главную роль в моем решении. Водворившись в Галле, он даже просил меня к нему приехать — просьба, видимо, продиктованная чувством сиротливого одиночества, и если, в силу различных обстоятельств, все же прошло несколько месяцев, прежде чем я последовал его зову, то внутренне я был готов в ту же минуту на него откликнуться, вернее, и вовсе не нуждался в приглашении. Одного моего желания быть вблизи от него, следить за его трудами и жизнью, за успехами, которые он делает, за тем, как развиваются его дарования в вольной академической атмосфере, желания ежедневно с ним общаться, охранять его, живя бок о бок с ним, за ним наблюдать — всего этого было бы достаточно, чтобы привести меня в Галле. А тут еще присоединились и уже упомянутые мною чисто научные соображения.