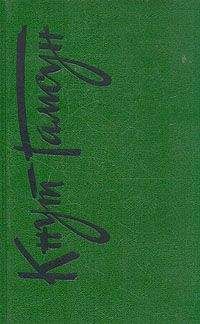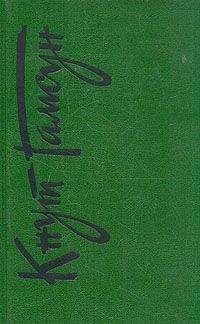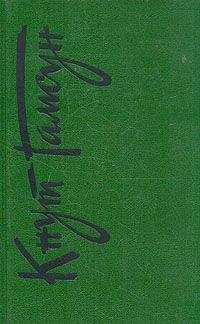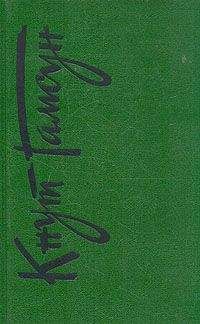На другой день пришёл почтовый пароход и сэр Хью отбыл.
Кажется, баронессе крепко запал в душу высокородный англичанин. Он, правда, не был охотник, но зато он был рыболов и странная одинокая душа, как и Глан. Она уверяла, что сэр Хью и не пьяница вовсе, а пьёт он так оттого, что скучает и хочет переменить свою жизнь. На родине, в Англии, у него множество замков.
Уже повеяло зимою, вот-вот из Бергена воротятся суда. Хартвигсен не нарадуется на тихую погоду, все идёт хорошо, страховые — у него в кармане. Ах, да разве о деньгах об этих он думает, нет, но ему лестно на глазах у Мака обделать выгодное дельце. Впрочем, это и не дельце даже, а игра фортуны, лотерея.
И вот большое новое судно Свена-Сторожа, рассекая волны, вошло в бухту на всех парусах. Мы все стояли у сарая Хартвигсена и смотрели. И Свен-Сторож, не приспуская парусов, повернулся по ветру и бросил якорь. И команда бросилась по вантам и реям убирать снасти. Спокойно, грузно, под тяжестью товаров, оседало судно в воде.
— Я бы и сам не мог лучше пристать, — сказал Хартвигсен.
Роза тоже была с нами. Она была такая же, как всегда, только куталась в большую шаль по причине своего положения. Она была тихая, светлая, в ней предчувствовалась уже будущая мать. Она протянула мне руку и не просто пожала, нет, она надолго задержала свою руку в моей руке. О Господи, во всём-то, во всём она была глубже и тоньше других. А я? Чем мог я её отблагодарить? Я только встал таким образом, чтобы её защитить от ветра.
— Давно мы вас не видели, не зайдёте ли как-нибудь поиграть? — сказала она.
— Я теперь не играю больше, — ответил я.
Она, я думаю, поняла, что у меня были свои причины так ответить, и не стала расспрашивать. Зато я заметил, что она понемножку обходит меня, защищая меня от ветра, так как я был совсем легко одет, но этого я не мог допустить. Вот уже полжизни почти прошло, а мне всё никак не забыть: она передвинется, я её обойду, и снова, и снова, и нам приходилось всё выше взбираться в гору, и мы отдалились несколько от других.
— Как поживаете? — спросила она.
— Хорошо, благодарю вас. А вы?
— О, благодарю вас, грех жаловаться. Скучно, правда, немного. Бенони вечно дома нет.
Я подумал: раньше она, кажется, мало печалилась, если её мужа не было дома. Не то теперь. И я порадовался за них обоих, что жизнь у них, верно, наладилась. Стало быть, грех жаловаться.
— Бенони с утра до вечера нет, — продолжала она. — Он удивительный человек. Я прежде не понимала, а теперь вижу. Всем-то он нужен, всем помогает.
— Да, это правда, он всем помогает.
— Только бы оставили нас в покое! Я иной раз так боюсь, дня не проходит, чтобы я не боялась.
— Малене получила новое письмо?
— Нет. Но что толку? Откуда-то ведь получила же она первое? Я теперь всё рассказала Бенони, и он со мной обошёлся как родной отец. Мне так хорошо, что лучше и пожелать нельзя.
Хартвигсен кричит судам:
— Приветствую вас в родной гавани! А где остальные?
Мы с Розой стоим высоко на горе, мы слышим ответ Свена-Сторожа:
— Шхуна от нас всего на несколько миль отстаёт. А вот «Фунтус» был ещё не готов, когда мы отправлялись.
— Ничего, никуда не денутся! — говорит Хартвигсен и кивает нам. — Дамский пол на борту! Всего-то делов! Ничего! Уж поверьте моему убеждению. Эй, чего вы там дрогнете? — кричит он нам с Розой.
— Сам чего дрогнешь? — отвечает Роза. — Я в пальто и в шали, а ты в одной куртке!
Хартвигсен расцветает от этой заботливости, он даже расстёгивает свою куртку и кричит:
— Это я-то дрогну!
Он поднялся к нам и сказал:
— Шли бы вы лучше домой, а? Моей супруге вредно стоять на холоду.
— Прошу тебя, застегни куртку! — говорит Роза, и она застёгивает ему куртку своими руками.
Меня как ужалила тоска при виде этих нежностей, милые руки проворно справлялись с пуговицами, Хартвигсен стоял довольный и важный.
— Вот, никогда не женитесь! — сказал он шутливо. — Покоя не будете знать. Она думает — я дрогну. Шли бы вы домой оба-два, я ужо приду.
Я извинился и отказался, я сам почувствовал, что изменился в лице.
— Ему нужно домой, — сказала Роза. Верно, она это сказала, чтобы меня выручить.
— Да, — ответил я и откланялся. На прощанье Роза спросила:
— Что Эдварда? Кланяйтесь ей от меня!
Три дня спустя шхуна вошла в залив. А галеаса13 всё не было видно. Хартвигсен меж тем безмятежно поговаривал, что всё идёт как по маслу. В бухте кипела жизнь, лодки шныряли от берега и обратно, разгружали суда, а на суше обе сирилуннские лошади развозили товар по сараям и складам.
Так шёл день за днём.
У нас с девочками начались занятия. Старшую я засадил за чтение букв, а младшая должна была вытвердить алфавит. Но маленькая Тонна успела его уже выучить под руководством старшей сестрицы, и я не знал, что ещё для неё придумать. Если бы не игры с детьми и не моя живопись, уж и не знаю, что бы я делал. Разумеется, я рассказывал девочкам сказки про птиц, про кукол, про деревья в лесу. Кое-какие сказки я сам сочинял. И когда меня просили что-нибудь повторить, я вечно сбивался, к вящему восторгу маленьких слушательниц, тотчас исправлявших мои промахи. Так и нейдут у меня из памяти те милые, благословенные дни. Бывало, рассказываю я им эти сказки, а обе слушают, сидя у меня на коленях.
Дни уже стоят сплошь ненастные, и чёрные ночи, сигналы почтового парохода отдаются в Сирилунне как волчий вой. От всего этого как-то тяжело и жутко на душе. «В море теперь — страсть!» — говорят в народе. Но Хартвигсен покуда не тревожится о своём галеасе. «Это ничего, ничего, что там Брамапутра на борту. Может, ветра им нет попутного». Однажды вечером хоть и хлещет злой ветер, но ясное небо сияет всеми звёздами, и я снова спускаюсь к пристани: там, с поворота к Хартвигсену хорошо глядеть на звёзды. Молоденький месяц почти не даёт света, а Млечный Путь зато раскинул по небу блистающий шлейф.
Я стою на повороте, Хартвигсен меня замечает с крыльца, он кричит, чтобы я зашёл. Мне неловко, что меня застукали так близко от дома, но я сразу к нему иду. Хартвигсен весел и доволен. «Уж нынче-то ночью «Фунтус» так и погонит к северу, — говорит он. — Экая ясная ночь — и ветер-то, а?».
Идя по коридору, я услышал, как шуршит платье: верно, Роза укладывается спать, подумал я.
Хартвигсен показывает мне диковины, какие купил ему в Бергене Свен-Сторож: водолазный костюм и еврейскую библию. Ах, он сущий ребёнок, и какая редкая смесь крестьянской сметки и простодушия! Он демонстрирует мне свою обнову словно драгоценность и редкость и проверяет, достаточно ли я преклоняюсь перед ним.
Не у каждого в доме такая одёжка сыщется! — говорит он. — Гляньте только на голову на эту! Прямо оторопь берёт! Вы думаете небось, мне от страха в него и не влезть? А? Да я его в первый же день надевал, а Свен-Сторож воздух накачивал.
— В нём, верно, не очень удобно ходить? — спрашиваю я.
— Не попляшешь, это нет. Ха-ха-ха, да и кабы я в эдаком наряде на танцы явился, все бы небось разбежались от Хартвича.
Но его внимание уже переключилось на еврейскую библию.
— Ну-ну, водолазный костюм со всеми причиндалами пусть себе тут повисит. Скоро тут от пола до потолка будет разного добра понавалено. А вот что вы скажете по поводу этой штуковины?
Библия была подержанная. Хартвигсен объяснил, что новой не достали.
— Их, говорят, уж и не печатают, вот как Лютер тогда отпечатал в Виттенберге, — сказал он. — Жалко, моя супруга уже легла, а то бы вы, может, нам почитали?
Я почитал немного, что сумел разобрать, и Хартвигсен шумно восторгался моей премудростью. Он достал из буфета вино и снова выразил сожаление, что его супруга ушла спать. Я сидел с ним долго, время текло, и я не жалел, что с нами нет Розы, я мог не бояться за себя, и всё-таки я сидел у неё в доме.
Когда я вышел от Хартвигсена, всё затянуло тучами, ни одной звезды не было в небе. С моря нёсся тяжкий гул. Мне в лицо ударяли снежные хлопья.
Ночью галеас «Фунтус» погиб во фьорде. Это было так странно, да, словно злая ворожба. Дело шло уже к утру, и тут начался снегопад, ненадолго, потом сразу опять прояснело. Но шквал был ужасный. Смотритель видел с башни конец катастрофы, все почти спаслись на двух шлюпках, но и шкипер Уле-Мужик, и жена его — оба погибли. И смотритель цинически заключал свой рассказ:
— Да-да, Брамапутра всегда была весела и общительна, вот и погибла среди разной морской живности.
Всё это просто не укладывалось в голове. Уму непостижимо. Подводный риф? Да, в самом деле, длинная банка, гребень. Но зачем понадобилось галеасу так далеко забирать на север? Все всегда идут к востоку от маяка. И «Фунтус», морской великан «Фунтус» несколько минут трепетал на рифе, потом скользнул назад, наполнился водой и канул в пучину.