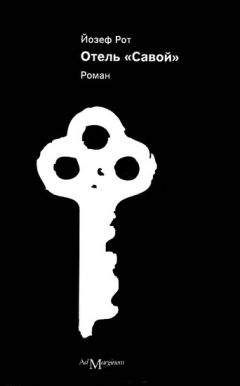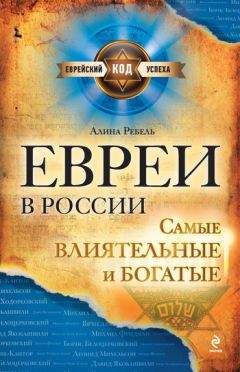Все мы уже много лет не лежали на таких прекрасных мягких кроватях, какими пользуются господа из первого этажа гостиницы «Савой».
Все мы уже давно не видали таких красивых нагих девушек, каких видят господа внизу, в баре отеля «Савой».
Этот город — могила бедных людей. Рабочие фабриканта Нейнера глотают пыль щетины, и все умирают на пятидесятом году своей жизни.
— Мерзость! — кричат возвращенцы.
Из тюрьмы не выпускали того рабочего, который поколотил Игнатия.
Каждый день рабочие идут к отелю «Савой» и к тюрьме.
Ежедневно в газетах сообщается о забастовках в текстильной промышленности.
Я чую революцию. Банки — так рассказывают у Христофора Колумба — собирают свою наличность и отправляют ее в другие города.
— Полицию собираются усилить, — сообщает Авель Глянц.
— Хотят посадить возвращенцев, — рассказывает Гирш Фиш.
— Я уеду в Париж, — говорит Алексаша.
Я так и думал, что Алексаша поедет в Париж, но не один, а со Стасей.
— Нельзя еще раз бежать, — жалуется Феб Белауг.
— Начался тиф, — рассказывает военный врач после обеда в зале файф-о-клока.
— Как уберечься от тифа? — спрашивает младшая дочь Каннера.
— Смерть всех нас заберет! — заявляет военный врач, и мадемуазель Каннер бледнеет.
Пока же смерть забирает только нескольких жен рабочих. Заболевают дети и попадают в больницу.
Чтобы уменьшить опасность заражения, закрывается столовая для бедных. Таким образом голодающие перестали получать суп.
Возвращенцев нельзя было больше интернировать в бараках: возвращенцев было слишком много. Это были целые толпы народов.
Полицейский офицер сообщает, что подано ходатайство об увеличении состава. Полицейский офицер не волновался. Он теперь носит револьвер и встает не в десять, а в девять часов. Он размахивает своими замшевыми перчатками, как будто нет никакого тифа.
Болезнь унесла нескольких бедных евреев. Я видел, как их хоронили. Еврейки подняли сильный плач, крики наполнили воздух.
Ежедневно умирало по десять-двенадцать человек.
Дождь падает косо и заволакивает город, а под дождем движется волна возвращенцев.
В газетах огнем горят ужасные новости, и рабочие Нейнера ежедневно появляются перед отелем и поднимают крик.
XXVII
Однажды утром не оказалось Бломфильда, Бонди, шофера и Христофора Колумба.
В комнате Бломфильда нашлось письмо на мое имя. Игнатий передал его мне.
Бломфильд пишет:
«Милостивый государь! Благодарю вас за вашу помощь и позволю себе передать вам гонорар. Мой внезапный отъезд не поразит вас. Если бы ваш путь привел вас в Америку, вы, надеюсь, не преминете посетить меня».
При этом был приложен гонорар в особом конверте. Это было царское вознаграждение.
Генри Бломфильд бежал втихомолку. С потушенными рефлекторами, на бесшумных шинах, без звуков сирены, темною ночью Бломфильд бежал от тифа, от революции. Он посетил своего покойного отца. Теперь он уже больше никогда не вернется на свою родину. Он, Генри Бломфильд, подавит свою тоску. Не все препятствия в состоянии устранить деньги.
Вечером гости собрались в баре. Они пили и говорили о внезапном отъезде Бломфильда.
Игнатий подал экстренное газетное приложение из соседнего города. Там рабочие дрались с войсками, высланными из столицы.
Полицейский офицер рассказывает, что по телефону уже настоятельно просили о посылке войск.
Алексаша Белауг собирался в ближайшие дни уехать в Париж.
Мадам Иетти Купфер как раз позвонила. Ожидался выход нагих девушек.
Вдруг раздался взрыв.
Несколько бутылок скатилось с буфета.
Послышался звон треснувших оконных стекол.
Полицейский офицер выбежал на улицу. Госпожа Иетти Купфер задвинула дверной засов.
— Откройте! — кричал Каннер.
— Неужели вы думаете, что мы собираемся у вас издохнуть! — кричит Нейнер, и рубцы от ран горят на его щеке, как будто намалеванные кармином.
Нейнер отталкивает госпожу Иетти Купфер и открывает дверь.
Швейцар, весь окровавленный, лежит в своем кресле.
Несколько рабочих стоят в сенях. Один бросил ручную бомбу.
Снаружи, в узкой улице, теснится большая толпа кричащего народа.
Гирш Фиш спустился вниз в кальсонах.
— Где Нейнер? — спрашивает рабочий, бросивший ручную бомбу.
— Нейнер дома! — говорит Игнатий.
Он не знал, бежать ли ему к военному врачу или вернуться обратно в бар, чтобы предостеречь Нейнера.
— Нейнер у себя дома! — заявляет рабочий стоящим на улице.
— К Нейнеру! К Нейнеру! — кричит какая-то женщина.
Улица опустела.
Швейцар убит. Военный врач не произносит ни слова. Никогда я не видал его таким бледным.
Все общество из бара спасается бегством. Нейнер просит полицейского офицера сопровождать его.
XXVIII
Утро, как и все предыдущие, начинается косым дождем. Пред отелем «Савой» выстроена цепь полицейских. Полиция с обоих концов преградила доступ в узкую улицу.
Толпа стоит на базарной площади и швыряет камни в пустую улицу. Камни заполняют ее середину. Ее можно было бы вновь перемостить. Полицейский офицер со своими замшевыми перчатками стоит в дверях отеля. Он удерживает меня и Звонимира, когда мы собираемся выйти. Звонимир отстраняет его. Чтобы не быть побитыми камнями, мы держимся вплотную около стен. Миновав полицейский кордон, мы начинаем протискиваться сквозь толпу.
У Звонимира много друзей. Они кричат:
— Звонимир!
— Друзья! — говорит какой-то мужчина, стоя на колодце. — Ждут войска! Сегодня вечером они будут здесь!
Мы проходим по городу. В нем тихо. Лавки закрыты. Нам навстречу попадаются еврейские похороны. Носильщики с покойником на плечах несутся во всю прыть, и с криком за ними следом бегут женщины.
Мы знаем, что нам уже не суждено снова увидеть отель «Савой». Звонимир хитро улыбается: «Наша комната не оплачена».
Мы проходим мимо той табачной лавочки, в которой выставляются номера выигравших в малой лотерее билетов.
— Вчера был тираж, — говорит Звонимир.
Лавочка опасливо и глухо заперта, но тиражная доска прикреплена к стене, рядом с зеленою дверью в лавку. Я не увидел своих номеров; быть может, вчера их записали мелом и дождь смыл их.
Авеля Глянца мы встречаем в еврейском квартале. Ночь он провел не в отеле. Он сообщает новости:
— Вилла Нейнера разрушена. Нейнер и его семейство уехали на автомобиле.
— Убить! — орет Звонимир.
Мы возвращаемся к отелю. Толпа не расходится.
— Вперед! — кричит Звонимир.
Несколько возвращенцев подхватывают этот призыв.
Какой-то человек протискивается сквозь толпу и остается впереди. Вдруг я вижу, как он протягивает руку, раздается выстрел, кордон полицейских колеблется, толпа вваливается на улицу. Полицейский офицер издает резкую команду. Раздается несколько жалких выстрелов, несколько человек падает, несколько женщин визжит.
— Ура! — кричат возвращенцы.
— Дайте место! — кричит Фаддей Монтаг, рисовальщик. Он высокого роста и худощав, выше всех на полголовы. Он кричит в первый раз в своей жизни.
Его пускают вперед, и за ним следуют другие.
Постояльцы отеля протискиваются сквозь толпу на базарную площадь.
На базарной площади стоит заведующий гостиницей. Он проник сюда незамеченным. Он прикрывает рот обеими руками, и зовет, и напряженно протягивает шею к окнам седьмого этажа:
— Господин Калегуропулос!
Я слышал, как он зовет и прокладывает себе путь к нему. Тут происходит так много интересного. Меня же интересует Калегуропулос.
— Где Калегуропулос?
— Он не хочет уйти! — кричит заведующий. — Он, подумайте, не хочет!
В это мгновение открывается люк чердака, и появляется Игнатий, старый лифт-бой. Неужели сегодня его так высоко поднял его лифт?
— Отель горит! — кричит Игнатий.
— Спускайтесь же вниз! — зовет заведующий.
Вдруг из чердачного люка вырывается яркое пламя; голова Игнатия исчезает.
— Нам нужно спасти его! — говорит заведующий.
Вдруг, подобно зверю, вырывается сноп желтого пламени.
Загорается на шестом этаже. За окнами видны белые пучки огня.
Пожар на пятом, четвертом этажах. Горят все этажи в то время, как толпа штурмует гостиницу.
В суматохе я замечаю Звонимира и окликаю его.
В сильный шум тяжелыми ударами врывается звон городских башен и колоколен.
Раздается барабанная дробь. Ее сопровождает гул от твердо ступающих подбитых гвоздями сапог. Раздается звук команды.
XXIX
Солдаты явились раньше, чем я предполагал. Они ступают точно так же, как и мы когда-то маршировали, широкими, развернутыми двойными шеренгами с офицером во главе и барабанщиком сбоку. Ружья с примкнутыми штыками они держат наперевес. Они маршируют под дождем, грязь летит вверх, и вся сомкнутая солдатская масса топает, подобно машине.