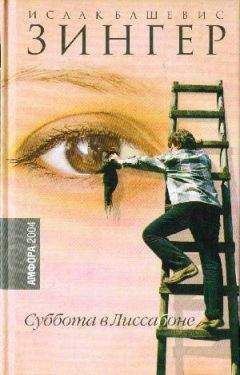— Нет, мы просто друзья.
— И не собираетесь пожениться?
— У него уже есть жена. — И Соня показала на меня.
— Ну хорошо, давайте посидим.
Старик сел на скамейку. Мы с Соней еще побродили среди могил, попытались разобрать надписи на памятниках. В воздухе пахло чем-то сладким, будто медом. Запах тлена. Жужжали пчелы, перелетал с цветка на цветок. Над могилами порхали огромные бабочки. У одной крылья были в белую и черную полоску, как талес. Мы поднялись на холм и увидели камень с двумя именами — Беллы и Гершеле Московера.
Соня взяла мою руку и начала раскачивать туда-сюда. А потом вонзила ногти в ладонь. Мы стояли перед камнем и не могли двинуться с места
Не могли уйти. Каждое мгновение какая-нибудь птица подавала голос. И это были разные голоса. Воздух был напоен густым ароматом. На Сониных волосах собралась целая коллекция насекомых. Божья коровка села на лацкан моего пиджака, гусеница заползла на брюки. На старом кладбище все смешалось. Жизнь, смерть, любовь… Соня сказала:
— Если б мы могли тут остаться, как все эти…
Вскорости мы вернулись к скамье, где нас ждал старый колонист. Он уснул. Беззубый рот приоткрылся, и теперь старик был похож на труп. Но глаза под кустистыми бровями, казалось, улыбались. Прилетела бабочка и села на козырек его кепки. И осталась там. Будто застыла. Погрузилась в свои мысли, древние, как ее род. Потом взмахнула крылышками и полетела в сторону холма, где лежали Белла и Гершеле Московер — Ромео и Джульетта грандиозной мечты барона Гирша: превратить русских евреев в аргентинских крестьян.
Из сборника СТАРАЯ ЛЮБОВЬ (OLD LOVE)
Я жил тогда в Майами-Бич. Однажды раздался звонок. Звонил мой старый приятель Ривен Казарский, писатель-юморист, он спросил:
— Менаше, не хотите ли совершить мицву? Думаю, это будет впервые в вашей жизни.
— Мицву? Это я-то? — возразил я. — Что это за слово такое? На иврите? На арамейском? А может, это по-китайски? Какая еще мицва, да еще здесь, во Флориде!
— Нет, Менаше, это не то чтобы мицва. Объясню сейчас. Тут есть один человек. Он мультимиллионер. Несколько месяцев назад в автомобильной катастрофе погибла вся его семья: жена, дочь, зять, маленький двухлетний внук. Он сокрушен совершенно. Тут в Майами он построил несколько доходных домов, да еще и кооперативы — наверно, дюжина будет, не меньше. Он ваш преданный читатель и большой почитатель. Хочет устроить прием в вашу честь. А если не хотите — просто встретиться с вами. Он откуда-то из ваших мест — из Люблина, что ли, или как это у вас называется, не знаю. Прямо из лагеря он приехал сюда, в Америку, — гол как сокол. Говорит на ломаном английском. И вот за пятнадцать лет стал миллионером. Как это у людей получается, никогда не пойму наверно. Думаю, это инстинкт. Вроде как у курицы класть яйца или у вас — корябать свои романы.
— Премного благодарен за комплимент. И что же я получу за эту мицву?
— На том свете получите, на том свете. Хороший кусочек левиафана. Да платоническую любовь Сары, дочери Товима. А на нашей паршивой планете, может, он продаст вам кооперативный дом за полцены. Он перегружен деньгами, а наследство оставить некому. Он хочет писать мемуары. И чтоб вы помогли ему — может, что поправить, отредактировать. У него больное сердце. Ему вживили электростимулятор. К нему приходят медиумы, и он к ним ходит тоже.
— И когда он хочет встретиться со мной?
— Да хоть завтра. У него кадиллак. Он сам заедет за вами.
На следующий день в пять часов зазвонил телефон, и швейцар-ирландец сообщил, что меня ждут внизу. Я спустился на лифте и увидел маленького человечка — в желтой рубашке, зеленых брюках и лиловых ботинках с золочеными пряжками. Лысина на макушке, вокруг торчат редкие волосы, а круглое лицо — как румяное яблоко. Длинная сигара торчит из узкогубого рта. Он протянул влажную ладонь и пожал мне руку — раз, другой, третий. Произнес тонким, пронзительным голосом: «Для меня это и удовольствие, и большая честь. Меня зовут Макс Фледербуш».
Произнося все это, он изучал меня — смеющиеся карие глаза были слишком велики для его комплекции: женоподобные какие-то глаза. Шофер открыл дверцу огромного кадиллака, и мы сели. Сиденье было обтянуто красным плюшем, и под ногами такой же нежный и мягкий плюш. Как только я опустился на сиденье, Макс Фледербуш нажал кнопку, и окно поехало вниз. Он стряхнул наружу пепел с сигары, снова нажал кнопку — окно закрылось. Он сказал:
— Курить мне нельзя. То же самое, что свинину есть в Йом-Кипур. Однако же привычка — мощнейшая сила. Где-то сказано, что привычка — вторая натура. Откуда это? Из Гемары? Из Мидрашей? Или просто поговорка?
— Право, не знаю.
— Ну да! Быть не может. Думал, вы все знаете. У меня есть Талмудический конкорданс, но не здесь — в Нью-Йорке. Если мне что-то нужно, я звоню моему другу рабби Штемпелю, и он разыскивает в конкордансе нужное слово. У меня три апартамента: дом здесь, в Майами, квартира в Нью-Йорке и еще в Тель-Авиве. Библиотека моя разбросана по всем этим домам. Я ищу какой-нибудь том здесь, а оказывается, он в Израиле. К счастью, существует такая штука — телефон, так что можно позвонить. В Тель-Авиве у меня есть друг, профессор в Бар-Илане. Он у меня живет — бесплатно, разумеется. Так легче дозвониться в Тель-Авив, чем в Нью-Йорк, или даже прямо здесь, в Майами. Потому что связь там — через маленькую луну, «спутник», что ли. Ах да. Сателлит. Наш общий друг Ривен Казарский, конечно, рассказал вам, что со мной случилось. Минуту назад у меня была семья, и вот — у меня отнято все, как у Иова. Но Иов был молод, и Господь воздал ему: даровал ему вновь дочерей, сыновей, снова нажил он богатство, снова появились у него ослы и верблюды. Но я уже стар и болен. Не для меня такие милости. Каждый день, что я прожил, — это дар небес. Я должен всегда быть настороже. Доктор позволяет мне глоток виски — но лишь капельку. Дочь и жена хотели взять меня в эту поездку, но я был что-то не в настроении. Это случилось прямо здесь, в Майами. Они собирались в Диснейленд. Внезапно грузовик — а за рулем сидел какой-то пьяница — вдребезги разбивает мою жизнь. Пьяница потерял обе ноги. Верите вы в Промысел Божий? Другими словами, в предопределение, в неизбежность судьбы?
— Не знаю, что и сказать.
— Судя по вашим писаниям, вроде бы должны.
— Где-то глубоко внутри, так я думаю.
— Если б вы пережили, что мне довелось, уж точно верили бы, не сомневались. Но так уж человек устроен — и верит, и сомневается — все сразу.
Кадиллак резко затормозил и остановился. Шофер припарковал машину. Мы прошли в холл. Голливудская роскошь: ковры, зеркала, картины, люстры — лучше сказать: не холл, а вестибюль. Сами апартаменты в том же духе. Ковры такие же мягкие, как обивка в автомобиле. Картины исключительно абстрактные. Я остановился перед одной из них. То, что на ней было изображено, напомнило мне Варшаву — так выглядела корзина со всяким хламом, который выбрасывали из дома в канун праздника. Я спросил Фледербуша, что это и кем написано.
— Да чепуха. Дрянь, она и есть дрянь. Писсако или другой какой. Все они мастера пыль в глаза пускать, — ответил он.
— Кто этот Писсако?
— Он так Пикассо называет. — Это материализовался неизвестно откуда Ривен Казарский.
— Какая разница? Все они хороши. Все жулики и проходимцы. Вот моя жена, мир праху ее, та разбиралась. А я нет, — сказал Макс Фледербуш.
Казарский подмигнул мне и улыбнулся. Мы с ним были дружны с давних времен, еще с Польши. Начинал он с того, что написал несколько пьес на идиш — комедий по преимуществу Все они провалились. Он опубликовал несколько литературных мелочей — портретов, эссе, набросков. Критики разнесли его в пух и прах. Все. Он прекратил писать. В 1939 году он приехал в Америку. Женился на вдове. Она была на двадцать лет старше Казарского и вскоре умерла. Он унаследовал состояние. Теперь он знался только с богачами. Носил бархатные пиджаки, красил волосы, а уж галстуки — и не галстуки вовсе, а яркие шейные платки, да еще расписанные вручную. Он объяснялся в любви каждой женщине — от пятнадцати до семидесяти пяти, ни одной юбки не пропускал. На вид ему никто не давал больше пятидесяти, хотя ему было уже под шестьдесят. У него были длинные волосы и бакенбарды. Черные глаза — как угли. Взгляд циничный и насмешливый: все ему теперь трын-трава. В Нижнем Истсайде, где мы часто собирались в кафетерии, он выделялся среди всех тем, что пародировал, да еще как, всех подряд — писателей, раввинов, партийных лидеров — так разделывал под орех, что только держись. Он похвалялся этим своим талантом, а в сущности был прилипала — жил тем, что паразитировал на других. Ривен Казарский страдал ипохондрией, а поскольку был чрезвычайно любвеобилен по натуре, всерьез считал себя импотентом. Мы были давно знакомы, даже приятельствовали, но никогда он не представлял меня тем, кто ему благодетельствовал, не вводил меня в круг своих богатых друзей. Видно, Макс Фледербуш очень уж настаивал, и потому просто нельзя было ему отказать.