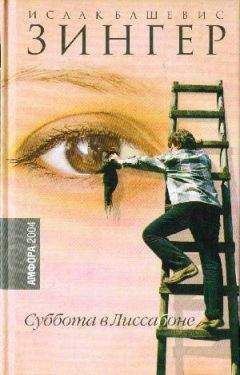Только он это сказал, откуда ни возьмись — человек с камерой! «Улыбку!» — скомандовал он. Макс Фледербуш попытался улыбнуться. Один глаз смеялся, а другой — никак: будто плакал. Ривен принялся гримасничать и подмигивать. А я как сидел, так и остался сидеть. Фотограф сказал, что сейчас проявит пленку и минут через сорок вернется.
Макс Фледербуш продолжал:
— О чем это мы говорили, а? Да, я живу в роскошных апартаментах, а только — будь она проклята, эта роскошь! Богатый, элегантный, изысканный дом — для меня он теперь Геенна огненная. Вот что я вам скажу: в каком-то смысле это будет похуже лагерей. Там, по крайней мере, мы надеялись. Тысячу раз на дню мы утешали себя тем, что гитлеровское безумие не может продолжаться вечно. Стоило услышать звук самолета, как нам казалось, что вторжение уже началось. Мы все были молоды тогда, и жизнь лежала перед нами. Редко кто кончал жизнь самоубийством. А сейчас что? Люди сидят тут и ждут смерти. Сотни людей. Недели не проходит, чтоб кто-нибудь не отдал Богу душу Все они богачи, нажили состояния, выворачиваясь наизнанку, пупы надорвали, может даже нечестными путями, а теперь не знают, что с этими деньгами и делать. Сидят на диете — все до единого. А уж эти — тьфу, глаз ни на одной не остановишь. Пофрантить — и то не хочется. Кроме газетной страницы с финансовыми новостями, ничего не читают. Сразу после завтрака садятся за карты. Но сколько можно дуться в карты? А приходится, иначе от скуки подохнешь. Устали от карт, начинаются сплетни. И как не надоест злословить, всякие гадости друг о друге рассказывать. Или начинают вести кампанию — сегодня они выбирают президента, а назавтра уже хотят объявить ему импичмент. Да так непримиримо, так ожесточенно — прямо смертельная схватка. Если он тронет хоть кого из лоббистов — все, считай, революция. Лишь одно приносит им хоть немного утешения — это почта. За час до того, как появиться почтальону, в холле уже толпа. Стоят с ключом в руке, будто сейчас Мессия придет, не иначе. Стоит почтальону задержаться, холл гудит возмущением, потом взрывается криками. А если почтовый ящик у кого пустой, так он роется там да стенки внутри ощупывает, будто можно что-то сотворить из ничего — из воздуха. Всем им за семьдесят, все получают чеки от Фонда социального обеспечения. Если чек не приходит вовремя, они просто с ума сходят — будто без куска хлеба останутся. И во всем подозревают почтальона. Если надо отправить письмо, три раза непременно тряхнут конверт, а женщины приговаривают что-то, может, бормочут какие заклинания.
Сказано где-то в «Пиркей авот»[32], что, если человек помнит о своем смертном часе, у него не будет грехов. Смерть здесь повсюду, как воздух. Вот, скажем, я встречаю знакомого в бассейне, мы с ним поболтали, а назавтра я узнаю, что он уже на том свете. Только человек умер, его вдова — а если умерла жена, то вдовец — начинает искать себе пару. Едва могут высидеть шиву — нет терпения. Часто бывает, что женятся между собой соседи по дому Вчера еще они поносили друг друга последними словами, проклинали страшными проклятиями, какие только существуют на свете, а сегодня — глядите-ка! — они уже муж и жена. Несутся на вечеринку и танцуют там на трясущихся ногах. Завещания и страховые полисы переписываются, игра начинается заново. Пройдет месяц, ну, может, два — глядишь, а новобрачный уже в больнице. Сердце, почки, простата.
Я не стыжусь сказать: я ничуть не умнее их, но все же не такой дурак, чтобы искать себе новую жену. Не могу делать этого да и не хочу. У меня тут есть свой доктор. Он свято верит в пользу прогулок. И вот каждое утро после завтрака я отправляюсь на прогулку. На обратном пути захожу в брокерскую контору. Там все они сидят, это старичье, уставившись на табло, наблюдая, как курс акций мечется туда-сюда, будто бесенок какой. Они прекрасно понимают, что не смогут воспользоваться этими шатиями. Все останется наследникам, а дети их и внуки чаще всего так же богаты, как и они сами. Но курс поднимается, и, полные оптимизма, они покупают акции еще и еще.
Наш друг Ривен хочет, чтобы я писал мемуары. Да уж, мне есть что рассказать. Я прошел через ад. Мало сказать так. Наверно, не один ад. Десять. Вот этот самый тип, что сидит тут с вами, потягивая шампанское, провел девять месяцев в тайнике за стенкой погреба, ежеминутно ожидая смерти. Да, это был я, собственной персоной. Я там был не один. Нас там было шестеро мужчин. Шестеро мужчин и одна женщина. Знаю, что вы собираетесь спросить. Мужчина всего лишь мужчина. Даже на краю могилы. Она не могла жить со всеми нами. Жила с двумя — мужем и любовником. Но и других, жалея, старалась хоть как-то приветить, приласкать. Если б в тайнике была какая-нибудь хитроумная машина и можно было бы записать, что там случалось, что говорилось, какие фантазии вспыхивали и гасли в нашем воспаленном сознании, все ваши великие писатели выглядели бы просто дурачками в сравнении с тем, что там происходило. В подобных обстоятельствах души обнажаются, и никому не дано списать нагую душу. Шмальцовники[33] — так это будет по-польски — доносчики то есть, знали о нас и постоянно вымогали деньги. У каждого из нас что-то было — у кого деньги, у кого немного ценных вещей. Пока мы могли, то покупали себе куски жизни — так про это можно сказать. И так сложилось, что эти скоты шмальцовники приносили нам хлеб, творог, сыр, разные другие необходимые вещи — даже не втридорога, а в десять раз дороже их настоящей цены.
Конечно, я могу описать все в точности, как оно было, привести факты, но чтобы вы могли себе это представить, нужно перо гения. Кроме того, человек склонен забывать. Если вы меня сейчас спросите, как этих мужчин звали, будь я проклят, если смогу вспомнить. Женщину звали Хильда. Это я помню. Одного мужчину звали Эдек. Эдек Саперштейн. Другого Зигмунт. Но Зигмунт… кто? Когда я лежу в постели и не могу заснуть, это возвращается, да так явственно, будто было вчера. Но не все, поверьте.
Да, воспоминания. Но кому они нужны? Сотни таких книг уже написаны. Обычными людьми, не писателями. Они присылают их мне, а я посылаю чек. Но читать их я не могу. Каждая из них для меня яд, и сколько яда способен проглотить человек? Почему так долго не несут мне рыбу? Наверно, она еще в океане плавает. И ваш фруктовый салат надо еще вырастить. Знайте: если вы пришли в ресторан и там полумрак — так это с единственной целью вас обмануть. Метрдотель — один из польских детей Израиля, а корчит из себя француза. Может, он и сам беженец. Когда вы сюда приходите, то должны сидеть и ждать, пока не подадут заказ. Чтобы счет, который потом принесут, не казался чрезмерно большим. Я не писатель и не философ, но, когда лежишь вот так полночи и не можешь уснуть, мозги крутятся как мельница. Какая-то дичь лезет в голову. А вот и фотограф! Быстро же он. А ну, дайте посмотреть.
Фотограф вручил каждому из нас по две фотографии, и мы сидели и разглядывали их.
Макс Фледербуш спросил:
— Чего вы боитесь? Вы пишете о духах, о привидениях. Это я знаю. Но сейчас, похоже, вы увидели настоящее привидение? Так ли это, хотел бы я знать.
— Я слыхал, вы ходите на спиритические сеансы?
— А? О чем это вы? Ах да. Хожу. Впрочем, если быть точным, это они ко мне ходят. Все это блеф, обман один, но я же ХОЧУ, чтоб меня дурачили. Женщина гасит свет и начинает говорить, и вроде бы я слышу голос моей жены. Меня не так легко надуть, но я же слышу! А вот и наша еда. Наконец-то пришли. Здешние ничем не лучше тех шмальцовников.
Распахнулась дверь, и вошел метрдотель, а за ним показались трое. Насколько я мог разглядеть в полутьме, первый был толстяк и коротышка, с квадратной седой головой. Голова сидела прямо на широких плечах, шеи не было. На нем была розовая рубашка, а огромный живот вываливался из ярко-красных брюк. Двое других были повыше и потоньше. Когда метрдотель указал на наш столик, толстяк, расталкивая других, бросился к нам и неожиданно густым басом закричал: «Мистер Фледербуш!» Тот аж подпрыгнул: «Мистер Альбергини!» Посыпались восторги и комплименты до небес. Альбергини говорил па ломаном английском с итальянским акцентом. Макс Фледербуш представил нас.
— Вот Казарский, мой хороший друг, — сказал он. — А этот человек — писатель. Еврейский писатель. Он пишет на идиш. Мне говорили, вы понимаете идиш?!
Альбергини прервал его:
— А гезунт ойф дейн кепеле… Хок ништ кейн чайник… А гут бойчик… Мои родители жили на Ривингтон-стрит, и все мои друзья говорили на идиш. В субботу они приглашали меня на гефилте фиш, чолнт, на кугл. Вы пишете для газет, да?
— Нет, он книги пишет.
— О, книги? Здорово! Нам тоже книжки нужны. У моего зятя три комнаты книг. Он знает французский, знает немецкий. Сейчас он врач. Но раньше он изучал математику, философию и все такое прочее. Добро пожаловать! Милости просим! Сейчас я должен вернуться к своим друзьям, а после мы…