— Это очень по-христиански, — сказала, миссис Коттл, когда очередь дошла и до нее. — Я всегда говорю своим девочкам: с лица не воду пить, доброе сердце куда важнее.
— Ничто так не возвеличивает человека, как доброта и готовность прийти на помощь ближнему, — подвел итог д-р Флорет, выслушав всех желающих высказаться. Д-р Флорет умел облекать прописные истины в словесную оболочку, но как ни странно, он никогда не раздражал своей банальностью. Его обобщающие сентенции звучали сигналом к тому, что предмет обсуждения исчерпан и пора закругляться, — вроде как „аминь“ в конце службы.
И лишь тетка поняла все превратно. Она решила, что предложена новая тема.
— В молодости, — сказала она, нарушив воцарившееся было молчание, — смотрясь в зеркало, я всегда говорила себе: „Фанни, люби людей; тогда и тебя кто-нибудь полюбит“. И я любила людей, и сейчас их люблю, — прибавила она, посмотрев на окружающих столь свирепо, что появись у кого желание возразить ей, оно тут же бы и угасло.
— И конечно же, все впустую, — догадался Хэзлак.
— А никто этого и не замечает, — ответила тетка. — Будто так и надо.
Хэзлак поменялся местами с матушкой и завязал разговор со старым Тайдельманном. Подобрав после многочисленных экспериментов нужную модуляцию голоса, он визжал ему в ухо, стараясь, тем не менее, придать беседе приватный характер. Хэзлак не любил терять времени попусту. Все детали своей знаменитой аферы с гуано он обсудил во время премьеры „Аиды“ Верди (правда, случилось это много позже, тогда он уже абонировал ложу в Королевской опере). Человек он был предприимчивый и даже с религией строил отношения на сугубо деловой основе: когда переговоры о поставках какао зашли в тупик, он быстренько перешел в католичество, и дело тут же сдвинулось с мертвой точки.
Но Хэзлака с Тайдельманном почти никто не слушал. Все взоры были устремлены на Уошберна и Флорета, вступивших в словесный поединок. Они спорили об обитателях Ист-Энда.
Как правило, уже само присутствие д-ра Флорета исключало возможность еретических речей. Существует поверье, что стоит сове взглянуть, на поющую птаху, как та тут же умолкает. Так и д-р Флорет: под его строгим взглядом терял дар речи любой смельчак, рискнувший пуститься в крамольные рассуждения. Но неистовый Торопевт был не из таких. Меньше всего он походил на робкого зяблика. Порывистый, прямой, безразличный к чужому мнению, он больше всего походил на вожака журавлиной стаи: его товарищи устали — да и не собирались они залетать в такую даль, но он-то знает, куда их надо вывести, и трубно кричит, зовя их за собой. Обратного пути у него нет. А с другой стороны, это был чистый ястреб — накинувшись на своего противника, он оставлял от него лишь пух и перья.
— Жизнь! — взорвался Уошберн. Д-р Флорет только что разъяснил присутствующим, как им следует поступать в тех или иных обстоятельствах, сведя все жизненные коллизии к нескольким типовым случаям. — Да что вы, так называемые приличные люди, знаете о жизни? Разве вы люди? Вы заводные игрушки! Вы не умеете ни радоваться, ни печалиться. Разве таким Господь создавал человека? Вы же повинуетесь не естественному чувству, а правилам приличия. Кто-то эти правила выдумал, сыскал мастера; тот вставил в вас пружину, подобрал колесики — и пошло-поехало. Вы все делаете, как заведено, — и живете, и любите, и смеетесь, и плачете. А вот нажми на этот рычажок — вы и согрешить сможете. Но вот наступает миг, когда завод кончается, и вы оказываетесь лицом к лицу с жизнью — к вам постучалась Смерть. Тут-то и становится ясным, что ваши домашние — всего лишь, заводные игрушки. Нажали рычажок — и они облачились в траур, а из глаз закапали слезы.
Больше всего на свете он ненавидел неестественность.
— Эх ты, кукленок, — как-то обозвал он меня, и я обиделся.
— Кукленок, куклёнок, — он и не думал извиняться. — Все мы такие. Заводные игрушки. Правда, весьма искусные: умеем ходить, махать руками, пищать, когда нам нажимают на живот, говорить — и не только „мама“. Но не более того. Какой механизм нам вставили, так мы и живем. Твой отец умеет расшаркиваться, вежливо кланяться — но в голову ему ничего не вложили; у матушки твоей — очаровательное кукольное личико, она может улыбаться, горделиво поводить плечами, но что ей с того? Да и сам-то я хорош, какой-то недоделок; задумали меня вроде бы как мужнину — какие-то колесики вертятся, только вот заводу не хватает. Так что, мой юный друг, — . все мы куклы.
— Это он так шутит, объяснила матушка. — Шутки, конечно, странные. Но обижаться на него не следует — вырастешь, сам поймешь: есть такие люди, которые несут всякую околесицу. Что они хотят сказать — никто не знает, да они и сами того не понимают.
— Так что же, по-вашему, выходит? — не соглашался с ним д-р Флорет. — Значит, что хотим, то и творим?
— Да уж лучше так, чем как в басне про мельника: старый осел молодого везет. А так случается с каждым, кого беспокоит лишь то, что о нем думают, — парировал Уошберн. — Был тут у меня недавно один пациент. Лечение я, конечно, назначил, но случай безнадежный. Захожу как-то к ним и застаю жену за стиркой белья. Спрашиваю: „Как самочувствие мужа?“, а она, знаете ли, так спокойно, не отрываясь от дела, мне и отвечает; „Да помер, должно быть. Хотя кто знает?“ и кричит: „Эй, Джим, ты что там, дрыхнешь?“ Ответа не последовало. „Стало быть, окочурился благоверный мой“, и отжимает какой-то там чулок.
— Но, смею полагать, подобная индифферентность восторга у вас не вызывает? — сказал, д-р. Флорет. — Ведь скончался человек ей близкий.
— Да какой уж так восторг, — ответил Уошберн. — Но и винить ее не за что. Не я этот мир сотворил, не мне его и судить. Но одно в этой женщине меня восхищает: не стала она строить из себя безутешную вдову — помер так помер. А живи она где-нибудь на Баркли-сквер, я бы всю валерианку извел, приводя ее в чувство.
— Положим, жена несчастного оказалась женщиной бесчувственной, — буркнул д-р Флорет, — но ведь по обряду положено, и даже у простонародья существует обычай…
— Знаю я все эти народные обычаи, — не дал договорить ему Уошберн. — Знаю и то, что вы хотите сказать. Не нами это, дескать, заведено, не нам это и ломать; пусть обряд бессмыслен, но что-то в нем все же есть, и уж коли не нашлось у тебя подобающей одежды, одолжи у соседа. Прецедент был: осел нарядился в ослиную шкуру и оказался еще большим ослом, чем был: вот и все. Ладно, с ослами все ясно. Но ведь и львы одеваются в ослиную шкуру! Была у меня пациентка. Случай элементарнейший, но день ото дня ей становится все хуже. В чем дело — я терялся в догадках. А выяснилось, что она просто не желает лечиться. „Доктор, милый, — рыдала она. — Жить мне никак нельзя. Я уж взяла с этого гада клятву: если умру, то он детишек не бросит. А если поправлюсь, отец от нас уйдет, и что мне с ними делать?!“ Вот какой здесь народ; попытайтесь их понять. А поймете — и вам все станет ясно. Тогда вы, не задумываясь, перестреляете всех, кого они ненавидят, и положите жизнь за тех, кого они боготворят. Конечно же, они дикари, но все же — люди, а не заводные игрушки.
— По мне, так уж лучше заводные игрушки, — сказал д-р Флорет.
— Конечно же, куклы приятней живых людей: у них же не лицо, а маска, — ядовито заметил Уошберн.
— Я вдруг вспомнил, — вмешался отец, — свой первый бал-маскарад. Было это в Париже в студенческие годы. Я испытал нечто очень похожее. Маски меня напугали; я выскочил на улицу, чтобы увидеть живые лица.
— Но ведь в полночь все сбрасывают с себя маски, — сказала миссис Тайдельманн своим томным голосом.
— Тогда я этого не знал, — пояснил отец.
— И не много потеряли, — ответила она. — Представляю, что за рожи скрывались за этими масками.
— Боюсь, что вы правы, — ответил отец. — Я согласен с д-ром Флоретом: иногда уж лучше маска, чем подлинное лицо.
Барбара не врала: миссис Тайдельманн оказалась женщиной невиданной красоты, лишь одно портило ее — глаза — колючие, холодные, беспокойно бегающие под сенью вечно опущенных ресниц.
Ко мне она была неизменно добра. Более того, с тех пор, как исчезла Сиззи, она оказалась первой, кто отнесся ко мне как к человеку. Конечно же, матушка меня любила; она хвалила меня за то, что я слушаюсь старших, веду себя хорошо, не дерусь с мальчишками; но это было мое обычное состояние, и гордиться тут было нечем. Матушка мной любовалась, словно жемчужиной. А какая от этого жемчужине радость, позвольте вас спросить? Какой уж выросла, такой и выросла, ее заслуги в этом нет. Вот и мы, люди — что дети, что взрослые, — недовольно морщимся, когда начинают возвеличивать наши природные достоинства: ведь подобные восхваления мешают нам совершенствовать то, что в нас развито слабо. Я знал, за что меня можно хвалить, и под большим секретом поведал бы об этом своим друзьям. Но этот наш новый друг — или, сразу скажем, враг — повел себя так, что в ее присутствии комплименты мне не требовались, я и без них понимал, что кое-что я значу. Как так получалось — объяснить не берусь. Она и не думала мне льстить; более того, она вообще не замечала моих добродетелей и ни разу не сказала, что я хороший мальчик. Она заворожила меня не тем, что расхваливала меня на все лады, а тем, что каким-то загадочным образом сделала так, что я перестал себя стыдиться.
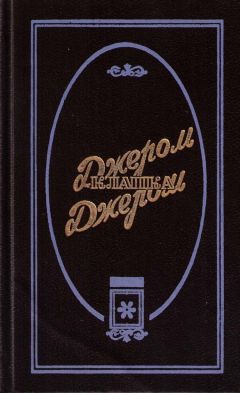
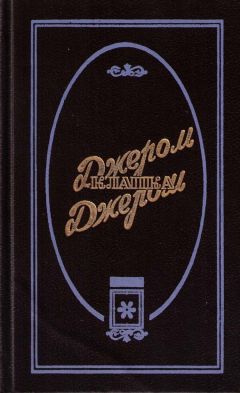


![Мелисса де ла Круз - Ведьмы Ист-Энда. Приквел: Дневники Белой ведьмы[Witches of East End. Prequel: Diary of the White Witch]](https://cdn.my-library.info/books/48380/48380.jpg)
