Й все же, несмотря ни на что, я ее не любил; более того, я ее боялся, особенно тогда, когда она вдруг вскидывала ресницы и смотрела мне прямо в глаза.
За обедом она сидела рядом с отцом; с приоткрытым ртом, подперев щеку рукой, она не сводила с него глаз. Стоило ему отвлечься на других гостей, как она тут же своим грудным голосом возвращала его к себе. Отец что-то говорил ей, жестикулировал; она с легким смехом остановила его, взяв за руку. Отец быстро посмотрел на матушку и, поняв, что она следит за ним, вспыхнул.
До сих пор в моих рассказах отец представал таким, как я, ребенок, его видел. Он мре казался просто стариком — со складками в углах подвижного рта, с седыми всклокоченными волосами. Но теперь, глядя на него глазами человека уже пожившего, я замечаю в нем другое: это был высокий, хотя и слегка сутуловатый, обаятельный мужчина с лицом поэта — я хочу сказать, с таким лицом, какое должно быть у поэта, но никогда не бывает; природа не любит, чтобы все было так очевидно, — с застенчивыми глазами подростка и нежным, почти что женским голосом. Наша прислуга его обожала, гордилась, что служит у такого хозяина, — ведь даже с распоследней замарашкой и бездельницей? (а таковыми оказывались практически все наши кухарки) он разговаривал, как со светской дамой, а распоряжения давал так, будто не приказывал, а просил; об одолжении. Я читал, что женщина будет любить только такого мужчину, в котором признает своего повелителя. Но разве не могут быть исключения, ведь женщины тоже любят разнообразие? Или, рискну предположить, почтенные авторы, мнящие себя знатоками по части взаимоотношений между мужчиной и женщиной, просто-напросто заблуждаются? Не берусь судить, но знаю лишь одно: когда отец заговаривал с какой-нибудь женщиной, глаза у него загорались. Однако ничего властного в отце не было.
— По-моему, все идет как надо, — шепнул Хэзлак отцу, когда он вышел провожать их в переднюю (Хэзлаки уходили последними), — А она что об этом думает?
— Я думаю, она за нас, — сказал отец.
— За обедом всегда можно договориться, — сказал Хэзлак. — Спокойной ночи.
Дверь за ними закрылась, но Что-то успело прошмыгнуть в щелку и встать между отцом и матушкой. Оно кралось за ними по узкой скрипучей лестнице.
О том, как исчезла тень.Лучше владеть немногим вкупе с любовью, нежели обладать сокровищами. Лучше вкушать дикие коренья, нежели иметь в стойле буйволиц вкупе с ненавистью. Столь очевидную истину мог изречь лишь очень мудрый человек. Теперь жаркое подавалось на стол не только по воскресеньям, но и в будни, а пудинг мы ели каждый день, пока пудинг не приелся; таким образом, мы лишили себя одной из радостей жизни, включив еду очередным пунктом в список заурядных физиологических потребностей. Теперь мы могли есть и пить все, что заблагорассудится. Теперь не нужно было за завтраком делить единственный кусок. Теперь хлеб не резался на тонкие ломтики — с тем, чтобы выкроить горбушку на субботний пудинг; мы просто ломали его руками. Но веселье пропало. Невидимый бессловесный гость поселился за нашим столом, и мы уж больше не смеялись и не поддразнивали друг друга, как бывало тогда, когда на обед подавалось полфунта колбасы или пара изумительно пахнущих селедок; разговор сделался пустым и касался исключительно вещей, к нам отношения не имеющих.
Теперь переехать на Гилфорд-стрит для нас было проще простого. Иногда отец с матушкой обсуждали такую возможность — но без всякого воодушевления, холодным тоном, как они теперь всегда разговаривали, пока не затрагивали одну тему (а разговор неизбежно так или иначе сбивался на эту тему), и тогда бесстрастность сменялась бешеной яростью; и так болезненно тянулся месяц за месяцем, и тучи все сгущались. А потом, как-то утром к нам явился человек и сообщил, что старый Тайдельманн скоропостижно скончался, прямо у себя в конторе.
— Ты поедешь к ней? — спросила матушка.
— За мной прислали экипаж, — ответил отец. — Ничего не поделаешь, придется ехать; должно быть возникли какие-то сложности с бумагами покойного.
Матушка горько рассмеялась; почему — я тогда понять не мог; отец ушел. Он пропадал весь день, и все это время матушка, закрывшись, просидела у себя в комнате; подкравшись к двери, я услышал, что она плачет, и удалился в полном недоумении, не понимая, как можно так убиваться из-за смерти старикашки Тайдельманна.
После этого она стала бывать у нас чаще. Траур пошел ей к лицу, она стала еще красивее: жестокий, взгляд сделался мягче — так, во всяком случае, казалось. С матушкой она была неизмено любезна; та на ее фоне казалась простушкой, лишенной всякого изящества. Ко мне — каковы бы ни были ее намерения — она относилась с удивительной добротой; почти не было случая, чтобы она являлась без подарка — пустячного, но приятного — или не находила иного способа доставить мне невинные детские удовольствия. Сердцем она чувствовала, что именно я люблю и чего на самом деле хочу книга, которые она мне дарила, находили в моей душе отклик, а те, что давала читать матушка, — нет; развлечения, в которые она меня втягивала, доставляли мне радость, а матушкины просветительные мероприятия — нет. Частенько матушка, проводя воспитательную работу, охлаждала мой пыл, рисуя неприглядную картину жизни, уготованной мне: узкая, уходящая за горизонт дорога, пролегшая вдоль двух бесконечных стен: „Должен“ и „Нельзя“. Побеседовав же с этой сладкоголосой дамой, я начал рисовать в воображении ожидавшую меня жизнь в виде залитого солнцем луга, и ты идешь, смеясь, по залитой солнцем тропинке под названием „Хочу“. Так что, несмотря на то, что в глубине души я, как уже сказал, ее боялся, я, сам того не желая, тянулся к ней, плененный нежностью, симпатией и пониманием того, что мне потребно.
— Он пантомиму когда-нибудь видел? — однажды утром спросила она у отца, посмотрев на меня, и как-то по-чудному поджала губы.
У меня подпрыгнуло сердце. Отец поднял брови.
— А мать что на это скажет? — спросил он. Сердце у меня упало.
— Она считает театр злачным местом, — ответил я. Впервые в жизни мне пришла в голову мысль, что матушка, возможно, и не всегда права в своих суждениях.
Миссис Тайдельманн улыбнулась, что усилило мои сомнения.
— Боже мой! — сказала она. — Боюсь, что я страшная грешница. Пантомима всегда казалась мне вполне благопристойным зрелищем. Все грешники прямиком направляются в… ну, в общем, в уготованное им место, чего они, несомненно, и заслуживают. Но мы могли бы дать слово; что уйдем с представления, не дожидаясь сцены, где клоун ворует колбасу. Договорились, Пол?
Послали за матушкой, и вскоре она пришла; мне больно было сознавать, что выглядит она крайне невзрачно: бледное лицо, простенькое черное платье. Матушка подошла к этой ослепительной даме в шуршащих одеждах и застыла в каком-то оцепенении.
— Вы уж отпустите его, миссис Келвер, — попросила миссис Тайдельманн; голос ее звучал мягко, вкрадчиво. — Дают „Дика Уитингтона“ — пьеска весьма благопристойная и поучительная.
Матушка стояла молча, нервно сцепив пальцы, и было слышно, как хрустят суставы; губы ее дрожали. Она была явно не в себе. Осознавая всю важность решаемого вопроса, я все же не мог понять, почему она так волнуется.
— Прошу меня извинить, — сказала матушка каким-то надтреснутым, хриплым голосом, — это, конечно, очень любезно с вашей стороны. Но мне бы не хотелось, чтобы мой сын шлялся по театрам.
— Но лишь один разок, — не сдавалась миссис Тайдельманн. — Ведь у мальчика каникулы.
В комнату проник солнечный луч и заиграл на ее лице; на его фоне место, где стояла матушка, казалось погруженным в почти полный мрак.
— Мне бы не хотелось, чтобы мой сын шлялся по театрам, — повторила матушка. — Когда он вырастет, то пусть слушается кого угодно, а сейчас его воспитанием должна заниматься я — и только я.
— Ничего дурного в этом нет, Мэгги, — убеждал ее отец. — Сейчас другие взгляды на то, что хорошо и что плохо. Многое изменилось с того времени, когда мы были молоды.
— Вполне возможно, — ответила матушка все тем же хриплым голосом… — Ведь с тех пор столько води утекло.
— Я вовсе не то хотел сказать, — рассмеялся отец.
— А я хочу сказать, что могу и заблуждаться, — ответила матушка. — Вы все молоды, а я — стара, мне с вами делать нечего. Я пыталась переделать себя, но, видно, годы свое берут.
— Напрасно вы так, — ласково сказала миссис; Тайдельманн. — Мне просто хотелось сделать мальчику приятное Ведь он изрядно потрудился в этом семестре — отец мне рассказывал.
Она нежно положила мне руку на плечо и привлекла поближе к себе; в таком положении мы и оставались некоторое время.
— Очень любезно с вашей стороны, — сказала матушка. — Но я уж сама постараюсь сделать ему что-нибудь приятное; Мы уж с ним найдем, как поразвлечься. Уж что-нибудь да придумаем — не такая уж я зануда, как может показаться. Мальчик это знает и понимает.
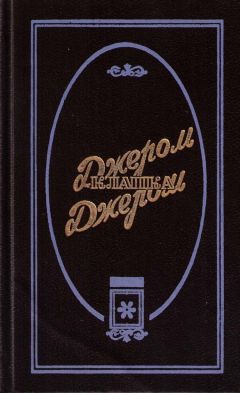
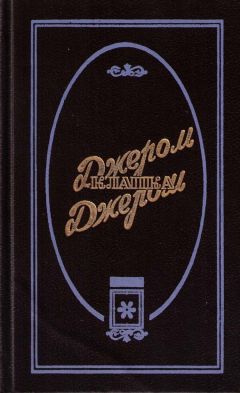


![Мелисса де ла Круз - Ведьмы Ист-Энда. Приквел: Дневники Белой ведьмы[Witches of East End. Prequel: Diary of the White Witch]](https://cdn.my-library.info/books/48380/48380.jpg)
