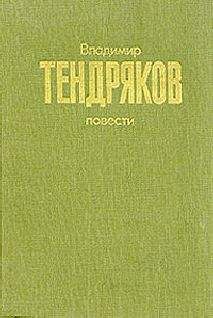– Да-а… Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась… А она… Она как есть… Я и в одежде-то на нее… А, черт! Об одном талдычу – ясно же!… Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце… Она, мокрая, белая, – ослепнуть! Плечи разведены, и все распахнуто – любуйся! И зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хорошая?»
– Мразь! – дыханием сквозь зубы.
– Сейчас, может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И ослеп совсем… Солнце тебя всю, до самых тайных складочек… Горишь вся сильней солнца, босые ноги на траве, руки вниз броше-ны, платье скомканное рядом, и улыбаешься… зубы… «Хватит. Уходи». То есть хорошего понем-ножку… И я послушался. А мог ли?… Тебя!… Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли!… А теперь-то понимаю – ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.
– Мразь! Недоумок!
– Опять ошибочка. Тогда – да, недоумок, тогда, не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет… Ты просто самка, которая ждет, чтоб на неё кинулись…
Натка натужно распрямилась – лицо каменное, брови в изломе.
Вместо нее откликнулась Юля Студёнцева:
– Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! – В голосе брезгливый ужас.
– По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему – не скажу… Это не безобразно? Ну так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!… До сих пор в. глазах стоишь… Груди у тебя в стороны торчат, а какие бедра!
И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику, в лицо.
– Подлец! Подлец! Подлец!!!
Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Натканы брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы – следы ногтей.
– Тьфу!
Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.
Задев плечом не успевшего откачнуться Игоря, Генка кинулся к обрыву.
С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.
Плотная, плоская ночь – как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной илистой сыростью.
Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сыпал захлебывающейся скороговорочкой.
– Иннокентий Сергеевич! Как же вы – вы! – на маниловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете – хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бы нисколько не удивился. Но вы-то человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам – в миражи ударились!
– В миражи? – Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку. – А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одиночку свой садик, не вера в миражи?
– Мой садик – сугубая реальность, – сухо бросил со стороны Решников, – а твои упования, согласись, из области фантазии.
– Не такая уж фантастика – показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем, – напомнил Иннокентий Сергеевич.
– Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! – снова обрушился Иван Игнатьевич. – Революция-то случится – если случится еще! – когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете – кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут – принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.
– Ну что ж, будем по старинке-матушке – каждый в своем закутке, в одиночку…
– Да нет, нет! Не получается у нас в одиночку! Да оглянитесь, как живем – трясем друг друга, на ковер бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну бросила на лопатки, Павел Павлович – Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич, – Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж…
– Бросаем на ковер, а результат? – резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.
– А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа лет семь тому назад. Нас тогда душили – даешь высокий показатель, и баста?! Отметки приходи-лось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаянья доходили – думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова сплачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, оказывается, мало – надели ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва прошла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймаем за кончик хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно – чего-то добьемся. Тянем-потянем – и вытянем репку. Сами! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.
– Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич, – произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.
– Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать… Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.
На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:
– Он!… Он!… Я же его любя, а он!… Сам-кой! О-о-о!…
Вера Жерих топталась над ней:
– Наточка, он же не только тебя, он всех… И меня тоже… А я, видишь, ничего…
– Перед всеми!… Зачем?! Зачем?! И все вывернул!… Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он – сам-ка!… Подлец!
Игорь нервно ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натыкаясь на Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцеву, вобравшую голову в кисейные плечики.
– Лучше бы убил меня, чем так!… Лучше! Честней!
– Наточка, он же всех…
Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:
– А меня-то он за что? А?…
Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.
– Как-кой он! – Юлечка вся передернулась – от белых бантов в косичках до щиколоток.
– Лучше бы убил!
Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.
– Он и есть убийца, – заговорил Игорь. – Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и…
– Как-кой он безобразный!
– Нен-на-в-ви-жу! Нен-на-в-ви-жу! – металась Натка.
– Разве не все равно, каким путем убить жизнь – ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!…
– Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его. Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке…– Сократ, как младенца, укачивал гитару.
– У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое – и без жалости, без жалости!… Всех, и даже Натку…
Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла, согнувшись.
Юлечка снова передернулась:
– Как-кой он, однако… Бесстыдный!
– Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет, – объявил негромко Сократ.
– Два сапога – пара, – процедил сквозь зубы Игорь.
Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась – выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.
– Я сегодня такое узнал, фратеры… Не хотел говорить Генке сразу, думал – праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем.
Игорь с досадой передернул плечами:
– Какое нам до них дело!
– Мне – дело! – произнесла Натка.
У нее твердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.
– Мне – дело! – повторила она громче, с гневным звоном в голосе.
– А-а, ну их! Пусть перегрызутся. – Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.
– И тебе есть дело! – Спрятанные за упавшими волосами Наткины глаза враждебно ощупывали Игоря.
Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону.
– Убийца же – сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?…
– При случае припомню.
– Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может…