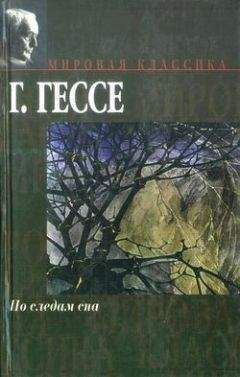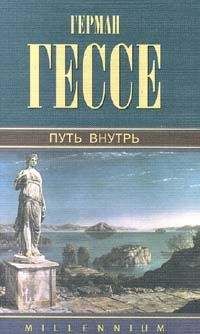Итак, Мартин позволил мне умыкнуть себя, мы поехали из Базеля в Штекборн, там под вечер переправились на лодке в Гайенхофен, где я, отперев тяжелым ключом свой домик, сходил в деревню за нашей служаночкой, чтобы она что-нибудь сварила и устроила гостю постель, и уже дышавшим осенью вечером мы сидели в теплой комнате за скромным ужином и болтали за хлебом и вином о Кальве и Маульбронне, о наших учителях в латинской школе, а немного и о своих планах, замыслах и надеждах, причем каждый без преднамеренья приукрашивал свои виды и обстоятельства, ибо у обоих не было ни малейшего желания объяснять и показывать друг другу проблемы и слабые стороны своего положения. Мы были очень веселы за кисловатым вином, и, когда мы укладывались, я нисколько не сомневался, что мне легко удастся еще раз заполучить к себе на денек вновь найденного приятеля. В хорошем настроении я отвел его по узкой крутой лестнице наверх в комнату для гостей, обратил его внимание на порог в дверях, состоявший из толстой опорной балки и представлявший известную опасность для неосторожно входящего, если тот как следует не наклонится или не захочет наступить на него, пожелал приятелю спокойной ночи, взял одну из ранних книжек Гамсуна, тогда еще новых и очень ценимых открывавшей их молодежью, и тотчас лег, чтобы еще полчаса-час почитать при свече.
Но на рассвете, задолго до того, как надо было вставать, меня после слишком короткого сна разбудили какие-то пугающие звуки, я отворил дверь и увидел, что на лестничной площадке, прислонясь к стене, с потухшей свечой в руке, в сером утреннем свете стоит и стонет мой гость, бледный, как побеленная стена, что особенно преобразило его, поскольку я с детства знал его только краснощеким и со свежим цветом лица. На него напало острое недомогание, что-то вроде дизентерии или кишечных колик, он несколько раз тихонько, чтобы не испугать меня, пробирался, корчась от боли, в уборную с позывами к рвоте, а теперь у него погасла свеча, и, застав его, беспомощного и полуживого, прислонившегося к стене и почти лишившегося дара речи, я уложил его в постель и посидел некоторое время возле него. Затем он попросил меня, чтобы я снова лег, но доставил его на станцию к утреннему поезду, эти приступы болезни знакомы ему как нельзя лучше, и единственное, чем тут можно помочь, — это поскорее добраться до дома, чтобы отдохнуть и как-то прийти в себя. Так и поступили, я вовремя доставил его — завтракать он не стал — на берег, на ту сторону озера и к поезду. Все еще без кровинки в лице, он со слабой улыбкой выглянул в окно вагона и в последний раз движением головы отверг мое предложение не отпускать его в путь одного. Так он и уехал, навсегда, ибо тогда я видел его в последний раз, и это была наша единственная в жизни встреча, когда мы, каждый со своей стороны, сделали шажок от просто товарищеских отношений соучеников к дружеским.
Больше я Мартина не видел. После того приезда, закончившегося для него ночным приступом болезни и поспешным отъездом, а для меня почти гневным отрезвлением и горьким возвращением в свой пустой дом, где сперва заболела жена, а потом гость, я ничего не слышал о нем больше двадцати лет. Потом, к моему пятидесятилетию, он написал мне длинное письмо, а затем, опять после многолетнего перерыва, еще одно, последнее. Позаботился он и о том, чтобы после его смерти мне прислали печатное извещение.
Вот, стало быть, каковы мои отношения с Мартином и мои встречи с ним: в Кальве, а потом снова в Маульбронне мы были некоторое время одноклассниками, в общей сложности максимум три года, затем в Тюбингене раскланивались на улице и иногда перебрасывались словечком-другим, еще через несколько лет встретились снова во время его базельского семестра и отпраздновали эту сперва радостную, а потом печально окончившуюся встречу, чтобы затем, до самой его смерти, лишь дважды еще узнать друг о друге из писем — писем, в основе которых лежала, вероятно, с его стороны, какая-то потребность, какая-то тяга, иначе бы он не стал их писать, но на которые я необязательно отвечал бы, если бы и во мне тоже не было какого-то зачатка интереса и симпатии к этому Мартину, выходивших за пределы просто однокашничества. Конечно, между нами существовало какое-то неясное взаимопритяжение, какая-то возможность дружбы, которым случай слишком мало содействовал, чтобы они развились и реализовались, да и сегодня они еще существуют, с чего бы иначе стал я через много лет после его смерти и почти полвека после нашей последней встречи о нем вспоминать и считал своим долгом написать эти страницы, словно на них можно все-таки выполнить то, чему не суждено было сбыться в жизни?
Нарисовать портрет Мартина, изложить хотя бы вкратце его биографию, описать его нрав или только посвятить ему сухой, запоздалый некролог — на это моего знания о нем куда как недостаточно. Когда я говорю о нем и пишу, я знаю, что речь идет не о реальном историческом, настоящем Мартине, а о Мартине, живущем в моей памяти и в моем воображении, об образе или призраке, краски которого взяты в такой же мере из догадок, как и из увиденного, в такой же мере из воображения, как и из памяти. Реален и историчен ли он, этот Мартин, или нет, жив и активен он вне сомнения, ибо при отнюдь не благоприятных обстоятельствах он заставляет меня помочь ему появиться. И поэтому я приступаю к работе над портретом моего Мартина.
По первому нашему знакомству, когда обоим нам было лет одиннадцать-тринадцать, я помню его веселым и жизнерадостным, но не шумным мальчиком, роста скорее маленького, с изящными и ловкими руками, с приятным лицом, очень румяными щеками и смугловатой кожей, к которым очень шли светло-карие глаза. Выражение этих красивых глаз было обычно ясное, приветливое, располагающее, но бывало в нем и что-то робкое, умоляющее, просящее пощады. Могу себе представить, что выражение это всю жизнь оставалось немного робким и немного заискивающим или просящим. Возможно, что его любили и у него не было врагов благодаря этому детскому выражению глаз. Но если между ним и мною, натурами совершенно разными, временами возникала близкая к дружбе симпатия, то происходило это оттого, что он обладал воображением и любил прекрасное, хотя опять-таки совсем по-другому, чем я. В то время как я был склонен скорее к эксцентричности, он определенно предпочитал, обладая для этого каким-то даром, все чистое, красивое и опрятное, и если я любил играть противоположностями и бросаться от патетики или сентиментальности к шутовству, то он в наших детских играх старался хранить верность избранной им роли. Прежде всего он был замечательным индейцем, и, вспоминая о нем, я чаще всего вижу его в роли и костюме ирокеза или могиканина, ибо не раз восхищался им, да и завидовал ему в этой роли, так она шла ему, так умел он загримироваться и нарядиться. Прежде всего, у него был придуманный и сшитый им самим головной убор из ярко выкрашенных куриных и натуральных петушиных перьев, убор, из-за которого я очень ему завидовал, будучи неспособен сделать себе такой же. Я пытался, но по сравнению с образцом мое подражание было топорным и жалким. К тому же моя диадема сидела на голове недостаточно плотно, и, когда по ходу нашего действа надо было бежать, мне приходилось одной рукой придерживать свое оперение, а лук или секиру нести в другой. Кроме этого украшения, Мартин владел и другой драгоценностью — выпуклым щитом с золотой лентой наискось посредине, на которой он изобразил герб, герб города Кальва, льва, стоящего на трех горах. Щит тоже был издельем его умелых рук, он был мастер рисовать и раскрашивать, золотить и лакировать, и если я многое отдал бы за то, чтобы обладать его знаменитым выпуклым щитом, то еще больше значило бы для меня быть тем, кто сумел вырезать, склеить, расписать и позолотить этот щит со львом. При этом я был в отношении работ Мартина не совсем некритичен, от меня не ускользнуло ни то, что кальвский герб, в сущности, не подходил к щиту ирокеза, ни то, что этот герб и орнаменты не придуманы, не расписаны вольно и щедро, а тщательно скопированы с образца и увеличены. Но именно этого, что составляло силу и талант Мартина, у меня не было, точности и аккуратности, опрятности и технического совершенства его работы, терпения, усердия, старательности и радости от начатой по плану и выполняемой точно, ступенька за ступенькой, работы.
Почерк Мартина тоже часто бывал предметом моего восхищения и моей зависти. У его школьных тетрадей был на диво аккуратный, опрятный и приятный вид, дух порядка, симметрии и гармонии царил и в выписанных с явным наслаждением и любованием буквах, и в том, как распределялись их колонны на учебном плацу страницы, отношение величины букв к интервалу между строками было столь же приятно и убедительно, как отношение написанных декоративным шрифтом заглавий к толщине проведенных по линейке линий, которые их подчеркивали. Начиная переписывать набело какую-нибудь латинскую понедельную работу, я часто садился за дело с намерением писать так же приятно, с такой же при точной размеренности плавностью. На протяжении нескольких строк мой почерк делался тогда чуть стройней, чем обычно, но красивым так и не становился, да и воли к такой стройности хватало всегда очень ненадолго, и позднее, когда я вспоминал об этом в совсем уже взрослом возрасте, мне иногда казалось, что мое стремление к такому красивому почерку относилось, по сути, к чему-то другому-к более простому, более ровному и более управляемому нраву моего товарища.