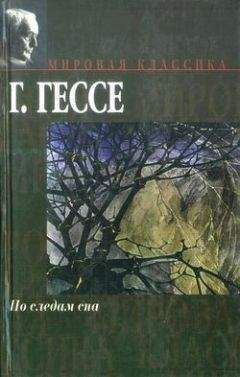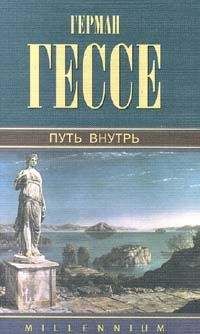Почерк Мартина тоже часто бывал предметом моего восхищения и моей зависти. У его школьных тетрадей был на диво аккуратный, опрятный и приятный вид, дух порядка, симметрии и гармонии царил и в выписанных с явным наслаждением и любованием буквах, и в том, как распределялись их колонны на учебном плацу страницы, отношение величины букв к интервалу между строками было столь же приятно и убедительно, как отношение написанных декоративным шрифтом заглавий к толщине проведенных по линейке линий, которые их подчеркивали. Начиная переписывать набело какую-нибудь латинскую понедельную работу, я часто садился за дело с намерением писать так же приятно, с такой же при точной размеренности плавностью. На протяжении нескольких строк мой почерк делался тогда чуть стройней, чем обычно, но красивым так и не становился, да и воли к такой стройности хватало всегда очень ненадолго, и позднее, когда я вспоминал об этом в совсем уже взрослом возрасте, мне иногда казалось, что мое стремление к такому красивому почерку относилось, по сути, к чему-то другому — к более простому, более ровному и более управляемому нраву моего товарища.
Кроме своего обычного, будничного и делового почерка этот молодой художник обладал и другими, более торжественными, более пышными. У него были перья «рондо» двух видов: простое, только вырезанное необыкновенно широко и косо, и двойное, расщепленное, сопровождавшее каждую линию более тонкой второй чертой. Этими перьями он не только ухитрялся писать так великолепно и четко, словно это напечатано шрифтом антиква, у него еще хватало фантазии и вкуса добиваться, чтобы двойные линии, завитки, а также утолщения и утончения букв прямо-таки плясали, парили и музицировали — эти каллиграфические изыски вспомнились мне, когда позднее печатник Мардерштейг показывал мне альбомы с типами всевозможных шрифтов Бодони.
Вне школы мы мало виделись, Мартин жил далеко от меня в верхней части города, у своего дяди-учителя, державшего пансион для мальчиков. Не помню даже, бывал ли я когда-нибудь в этом доме, но его наружный вид я и теперь могу представить себе. Название улицы, где он находился, я тоже забыл. Но это была та самая улица, где Кнульп навестил своего друга, портного Шлоттербека, и во время прогулок памяти по Дубильной слободке, которые я проделывал с Кнульпом, мне иногда являлись и тот дом, и фигурка Мартина. И тогда тоже в единственную за жизнь нашу задушевную встречу, в тот день в Базеле и в моей деревне на Боденском озере он говорил мне о том доме и о своей любви ко всем воспоминаниям, связанным с Кальвом, с его школьными годами и детством. С улыбкой и скрытой за шутками растроганностью заговорили мы о том, какой фантастической ценностью способна наделить душа самые ничтожные мелочи, пустяки, если с ними соединены дорогие воспоминания, — старую ручку, старомодный ключ от часов, которых давно нет, ржавый перочинный нож. Тут Мартин задумался, помолчал, уйдя в свои мысли, а потом заговорил о турнике, гимнастическом снаряде во дворе того дома напротив шлоттербековского, и о гвозде, который он однажды, гуляя в одиночестве в том дворе, вбил в столб этого турника, без практической цели, только от радости ровно и точно вгонять молотком в дерево этот случайно найденный гвоздь. С непонятным сегодня и невозможным сегодня по силе наслаждением он вбивал этот гвоздь, рассказывал Мартин, которому тогда было лет двадцать семь, он проверял этим свою ловкость, но, кроме того, совершал некий мистический акт, не то превращая этот принадлежавший всем пансионерам турник в свою собственность, не то отмечая его тайным, лишь ему одному ведомым образом.
Этими записями я, пожалуй, и исчерпал большую часть того, что знаю о Мартине. Но в некоторых пунктах я полной уверенности не чувствовал. Я многое отдал бы за возможность проверить свои воспоминания. И поскольку других надежных источников у меня не было, я вспомнил, что в дальнейшей своей жизни мой товарищ написал мне по меньшей мере два письма. Первое — к моему пятидесятилетию, в 1927 году, года через двадцать три после нашей последней встречи, а второе — незадолго до своей смерти. Вероятность, что письма эти сохранились, существовала, но надежда найти их была мала, однако, доведя свои записи до этого места, я принялся за нелегкие поиски, и они оказались не совсем напрасными. Письма, правда, казавшегося мне наиболее важным, я так и не нашел нигде, хотя мог бы поклясться, что его сохранял. Я имею в виду последнее письмо. Но хоть письмо 1927 года я отыскал, и в той же связке старых писем — печатное известие о смерти.
Но с этим найденным сокровищем все вышло у меня довольно странно. Находка очень меня обрадовала, но текст письма оказался совсем не таким, как я ожидал и, думалось, знал. И вместо того чтобы прояснить мои воспоминания и сделать их определеннее, письмо, наоборот, совершенно спутало их и сделало совсем сомнительными. Оно показало мне, что хотя мое представление о Мартине в целом верно, но его воспоминания о совместно пережитом отличались от моих и отчасти даже противоречили им. Его память была, казалось, лучше моей, во всяком случае, она сохраняла многое, чего я не помнил, опуская зато, правда, такое, что я особенно выделял и берег.
Странно и чуть ли не поразительно было для меня уже то, что почерк этого найденного письма не имел ничего общего с тем почерком мальчика Мартина, которым я так восхищался. Это был ясный и довольно красивый, но никак не каллиграфический и вовсе не стремящийся к той прежней аккуратности почерк. Письмо занимало несколько страниц, это было поздравительное послание, в известной мере юбилейный адрес к моему пятидесятилетию, что-то вроде знака признания, застенчивого свидетельства дружбы. Главный раздел состоял из констатации вроде той, что я «ныне уже общепризнанная знаменитость», эта часть письма была несколько мещанской и назидательной, но куда большая часть послания была хвалой нашей молодости и годам учения, прерывавшейся краткими вздохами скромности вроде «Ты, правда, едва помнишь меня». Главным же, драгоценным, было для меня то, что старый однокашник по семинарии как бы подарил мне на день рождения свои воспоминания юных лет обо мне. Я жадно читал эти страницы. Но большинства событий, о которых он там упоминал, в моей памяти не было. Например, он рассказывал об одном вечере моей последней тюбингенской поры, в который он, приглашенный мною, сидел вместе с другими прежними однокашниками у меня в комнате и слушал, как я читал книгу «В час пополуночи». Наверняка он прав, но у меня об этом тюбингенском вечере не осталось ни тени воспоминания. А потом он переходит к нашей встрече в Базеле и совместной поездке в Гайенхофен. Этот рассказ я прочел с величайшим интересом. И об этой встрече Мартин помнит гораздо больше, чем я, я начинаю действительно стыдиться своей забывчивости. Только до момента прибытия подтверждает его рассказ мои собственные воспоминания, а потом он продолжает: «На другой день мы обошли всю артистическую колонию там на озере — Э. фон Бодмана, В. фон Шольца, — заглянули и к одному живописцу. И все это тогда не пошло мне впрок. Я пребывал тогда в тяжелом внутреннем кризисе… Я вернулся домой в состоянии довольно жалком и несчастном. Я увидел, чего мне не хватало».
Как же это так? Целый день, стало быть, я обходил со своим гостем тамошних друзей и знакомых и начисто об этом забыл. Я готов доверять его памяти больше, чем своей, ему ведь все это, привычное для меня, было внове, а к Э. фон Бодману я тогда действительно несколько раз захаживал, но не к В. фон Шольцу, так что, сдается, друг Мартин задним числом сделал этот забытый мною день на Боденском озере богаче впечатлениями и знакомствами, чем он мог быть. А о том, что было для меня главным, незабываемым событием той встречи, о своем тяжелом заболевании, он вообще ничего не помнил! Оно выскользнуло у него из памяти, как у меня это турне по соседям у озера! Так же как в своем добросовестном повествовании об этой поездке он присочинил по меньшей мере посещение Шольца, он совершенно забыл или сохранил в памяти только как душевную неурядицу свое заболевание, произведшее на меня такое впечатление, на десятки лет запечатлевшее во мне его искаженное лицо и его несчастную шатающуюся фигуру! Ах, я чуть ли не предпочел бы, чтобы это милое, длинное письмо Мартина затерялось, чем мне сталкиваться с такими противоречиями и сомнениями!
Все же я должен стоять на том, что говорит мне моя память, и защищал бы это от всех кажущихся опровержений. Но как своеобразно посрамляет, как смущает нас каждая встреча с нашей скрытой жизнью, с теми силами, которые потешаются над нашим разумом, нашим сознанием, нашей памятью, по-диктаторски распоряжаясь нашей способностью помнить и забывать! На какие бы лады я ни сопоставлял друг с другом обе картины, оставшиеся в памяти от нашей встречи, обе они донельзя ясно и с какой-то насмешкой показывают мне, как отличаемся мы от самих себя и от того, какими видят нас наши ближние. Вот я провел день или два с милым, случайно встретившимся снова товарищем юности, и как же мы оба, не желая того и не подозревая о том, разыгрывали друг перед другом спектакль, как же мы лгали себе и друг другу! Для меня Мартин был свежим, цветущим, краснощеким мальчуганом с нормальной, может быть, несколько бюргерской температурой души, и, может быть, именно это соблазнило меня представить ему свое житье и свое тогдашнее настроение весьма интересными, веселыми и завидными, тогда как на самом деле меня очень угнетали проблемы моего писательства, моего недавнего брака и моего намеренно небюргерского быта. А он в свою очередь позволил поразить себя и ослепить, он задним числом даже разукрасил приключение своей поездки к Гессе всяческими добавками, он так же успешно утаил от меня свои тяжелые проблемы, заботы и неуверенность, как я от него свои, и умудрился затем начисто забыть выплеск этих горестей в приступе с виду тяжелого физического недуга. Столь несходно повлияли на нашу память по части поездки в Гайенхофен и привели к двум столь отличным друг от друга рассказам о ней одни и те же у него и у меня причины и силы, это были конфликты в его душе и в моей и потребность не слишком отчетливо видеть эти конфликты самому и тем более не дать их увидеть товарищу. Как я превратился в памяти Мартина в счастливого феака и бедового парня, так он превратился в моей в милого, бесхитростного человека, склонного, к сожалению, к тяжелым желудочным расстройствам.