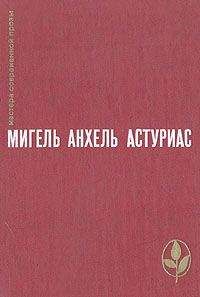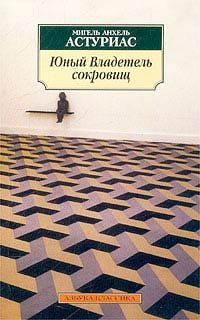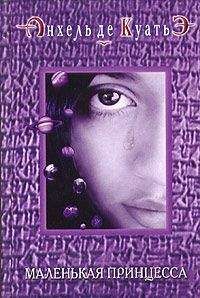— Мне стыдно, но я не понимаю… Это все так сложно… Противный, не объясняешь мне…
— Попытаюсь. Барельеф…
Аурелия выпятила грудь и проговорила, подражая профессорскому тону археолога:
— Барахлеф…
— Барельеф, детка!
— Я нарочно сказала так, мне лекций читать не надо… Прощай… уж поздно… Джо Мейкер не погасит лампу, пока я не вернусь… Но он скоро укатит в Чикаго, и тогда у тех камней ты расскажешь мне про свои барельефы.
Ночь, опечатанная звездами, как черный конверт золотыми печатями, конверт, где спрятано людское счастье, закрыла горизонт. Что парило в палящем, жгучем воздухе? Что за неведомые запахи шли из этой ароматической печи? Какой сон природы кружился вместе со звездами?
Рэй Сальседо возвратился в отель. Он был голоден и проглотил два сандвича, три сандвича, шесть сандвичей и несколько стаканов пива.
Шагая на следующий день к месту своих раскопок — сапоги, пробковый шлем и все прочее, — он заметил, что из зеленой стены вьюнков выглянул смуглый листок и поманил его, как каждое утро. Он остановился и подошел поздороваться с самой ветвью — Аурелией; она лежала в гамаке и ждала его, чтобы пожаловаться на жару, москитов, на день, долгий оттого, что не с кем поболтать, — обычные жалобы ребенка, который ищет утешения, ибо едва Сальседо двинулся дальше, на свидание со своими каменными жрецами, она начала гонения на христиан и первой жертвой пал отец — дочь потребовала от него книг по искусству древних майя.
— Разве дела тебя уже не занимают?
— Нет. Теперь меня интересует двойное измерение барельефов Киригуа и загадка нерасшифрованных иероглифов, геометрия священных городов… Ты не слышал о Накуме[54]? Мне хотелось бы, чтобы на этих днях ты поехал со мной в Копан[55]
— Когда вернусь из Чикаго — все, что ты пожелаешь. А сейчас пусть Рэй Сальседо составит тебе компанию. Почему ты не попросишь его?
— Он уже был в Копане, оттуда поедет в Паленке[56]. А по утрам и вечерам, повинуясь лишь одному компасу — сердцу Аурелии, отец и дочь ездили верхом — сначала на плантации, окинуть глазом опытных хозяев свои богатства, а затем в ложбины Киригуа, основанного в золотом веке культуры майя, где смуглый археолог с черной шевелюрой и зелеными глазами, казалось, не изучает, а ждет, что с губ каменных жрецов сорвется колдовское слово, которое позволит ему раскрыть тайны многих тысячелетий.
— Жизнь состоит из одних начал без концов… Конец непременно приходит, но тем не менее все — сплошное начало… — размышлял Джо Мейкер, возвращаясь с плантации накануне своего отъезда в Чикаго — вокруг листва бананов, на голове широкополая ковбойская шляпа, — покачиваясь в седле в такт религиозному гимну, что пела его дочь. Мерно колыхались тела всадников, будто их несла в сумерках на себе река.
— Господи Иису!.. — воскликнул Хуамбо, свист замер на его вытянутых в трубочку губах. Он взглянул в приоткрытую дверь в прачечной и завозил по лицу пальцами — паучьими лапками, сотворяя крестное знамение…
Хороший слуга глядит, но не видит, слышит, но не вникает, и Хуамбо не видел и не вникал, и все же весь обратился в слух и зрение — глаза его и барабанные перепонки не были в услужении, и он видел и слышал больше, чем надо. Мулат стоял поглощенный зрелищем, а потом неодобрительно замотал головою — мельницей-вертушкой с волосами-завитками цвета пережженного шоколада, — молча замахал руками, выкатив глаза и оттопырив губы.
Он отошел от двери. Спаси бог, если заметят, что он подсматривает: изобьют, изувечат, заставят рот полоскать собственной кровью да зубами, или… не будут бить, а увидев, что их накрыли, совсем обнаглеют и вынудят служить им сторожем. Под ногами скрипели половицы, а вокруг звенела птичья многоголосица: чорли, санаты, канарейки, чорчи наполняли любовью небо и кроны деревьев с медово-зеленой листвою и пестрыми цветами; страстный трепет слышался и под крышей прачечной, — не только там, на горе белья, где сеньорита и археолог…
В воскресенье не поднимались жалюзи с этой стороны дома и никто отсюда не выходил, кроме Хуамбо. Он появился поздним утром в праздничном костюме, насвистывая вальс «На эшафоте», не зная даже, что ему больше нравится — музыка или слова:
Покружись-ка со мной в этом вальсе,
но не трогай парик короля:
ведь монарха лишили на плахе
головы и короны не зря.
Покружись-ка со мною на плахе,
угадал ты, я смерть;
неспроста я корону взяла у монарха
и терновый венец у Христа.
Но. если Самбито не знал, что ему нравится больше: музыка или слова, этот вальс пел один певец из Омоа, — то он не мог также сказать, заходил ли он по воскресеньям в прачечную взять полотенце или насладиться запахом прачек, который пропитал помещение, словно аромат и краски, идущий с потолка из-под горячей цинковой кровли.
Запахи женщины — дух ночи, дух праздника, дух повседневности, — витавшие в этой бане во влажной жаре, заставляли Хуамбо ощущать свое одиночество, одиночество заброшенного мулата, слуги, приговоренного к жизни холостяка. Он был Мейкеру Томпсону чем-то вроде жены с тех пор, как тот овдовел. Нет, не в дурном смысле, а просто потому, что понимал без слов, повиновался слепо и боялся хозяина больше, чем бога. Американец спас его от клыков ягуара, когда родители оставили Хуамбо в лесу на съедение зверям, а потом воспитал найденыша у себя. От пережитого страха Хуамбо заболел падучей болезнью, и хозяин лечил его, пугая смертью: взводил курок и целил мулату в сердце всякий раз, когда надвигался припадок, и дрожь исчезала, только по телу струился пот, от которого несло замороженным страхом и холодной мочой — тем, чем разит от людей на смертном одре.
Уже отойдя далеко от двери, Хуамбо снова перекрестился при воспоминании о хозяине. Всех убьет, если узнает… К счастью, его здесь нет, он за границей, в Чи-каке… Ну и названия у тамошних местечек!.. Хоть он там родился, лучше уж говорили бы — в Чикаше.
Больше, чем сами женщины, мулату нравились испарения, исходящие от самок, испарения, которые, поднимаясь вверх, обволакивают луну. И по воскресеньям он чуял тут дух недавно искупавшейся женщины, вдыхал запах, заточенный в прачечной, смешанный с кислой вонью синьки индиго, которой синили белье, чтобы показать, каким бывает небо, синили, чтобы белье стало еще белее, — как облака, голубеющие по вечерам и оттого кажущиеся чистыми-чистыми. Какое это блаженство для одинокого человека погружаться в нечто, оставшееся здесь от смуглого тела, пахнущего водой; от рук, обласканных нежной пеной, чуть обожженных едким мылом, уставших выжимать и вешать белье; от прекрасных глаз, отражающих блеск реки, у которой прачки живут; от смеха, похожего на перестук зубов; от слов, которые, как вулканическая лава, сжигают все, чего коснутся, испепеляют человека.
Хуамбо любил зайти по воскресеньям в прачечную, побыть там и уйти, взяв полотенце; впрочем, он часто забывал взять его, это полотенце для туалета. Но на сей раз ему пришлось проглотить вальс «На эшафоте» и отпрянуть, как от удара, застыть на месте, сося пальцы, — на зубах скрипела кислая грязь ногтей.
Горы белого солнца — точно вместо белья сюда втащили солнце и завалили им полумрак, — вселенная платков, простынь, салфеток, скатертей, покрывал, шуршащих, как сухие листья, под их телами.
Аурелия вытянула шею и запрокинула голову, чтобы | на ее мягком плече уместилось лицо Сальседо. Он видел, как она закрыла глаза — жертва на священных камнях алтаря, — вобрав в себя весь зримый свет, будто прощалась с жизнью. (Жрец, одетый в роскошный наряд, вонзает нож из темного камня — холодная слеза | земли, земля плачет кремневыми слезами — и вынимает жаркое сердце, как огненную птицу.) «Отомстить! — шептала она. — О да, за все!..» Нереальность материи — хлопка и полотна, — источающей густой аромат тамаринда. Здесь ее прихоть мстила за время, что она провела в колледже, ни разу не видав своего тела… «О да, | отомстить, отомстить!» — повторяла Аурелия, и ее полуоткрытый рот искал его губы под низвергавшимся на нее водопадом зеленых глаз. Отомстить отцу, не подавшему ей даже руки, когда встретил в порту, а ведь она возвращалась из колледжа после долголетнего отсутствия. Но еще сильнее она ощутила свое сиротство, стала сильнее страдать от него, когда отец дал понять ей, как она некрасива… Бесцветная кукла в очках, гладкие волосы в тугосплетенной косе, и одежда из ткани, жесткой, как могила. «О да, за все, за все!» Ядовитый | пот солонил поцелуи, но от этого не становилась менее сладостной безумная и опустошающая отдача себя — она брала реванш за причиненное ей зло. Треск секущих поцелуев, капли слез на ресницах… Отомстить за то, что ты есть… за жестокость тех, кто даровал нам жизнь (ее отец… даже руки не подал, а она возвращалась издалека, откуда возвращаются сироты, как из обезглавленного мира)… за то, что сейчас они всего только те, кто они есть, и за то, что они не могут быть теми, кем не были, падая на самое дно, сплетясь тесней и тесней, преступая границу рыданий… В плотской любви есть что-то от мести…