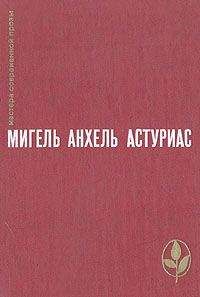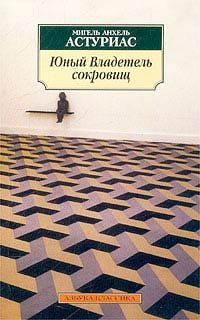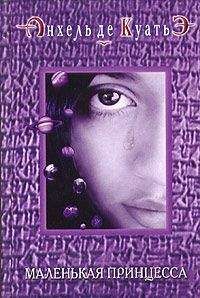Хуамбо расстегнул воскресную рубашку и отправился искать кран. Голова трещала, надо подставить ее под сильную струю, чтобы вода била по ушам, затылку, спине и стекала бы до самого копчика. Надо потушить уши, которые, словно поддувала, извергали огонь. Струя стегнула по лицу, подставленному под удар. Закрыв глаза, фыркая и что-то бормоча, он дал струе ударить в нос, по лбу, еще раз в затылок. Потом тряхнул головой, как выскочивший из воды пес; не торопясь закрыть кран, набрал в рот воды и, устремив вдаль пустые, бездумные глаза, стал переливать ее из одной щеки в другую, будто в такт сердцу, которое полоскалось в крови: туда-сюда, туда-сюда.
Да и ради чего веселиться, если на душе грустно, страшно грустно?..
Шеф уехал в «Штаты», а на письменном столе оставил три портрета: портрет Майари, девушки Майари, которую Хуамбо почти не знал — был тогда совсем маленьким, — но любил (он украдкой всегда целовал фото, она ведь — защитница бедных); портрет доньи Флоры, да почиет донья в мире ртом книзу[57] и да провалится еще глубже, если, по несчастью, захочет воскреснуть и выйти на свет божий; и портрет сеньориты Аурелии. Хозяин также оставил на вешалке две кобуры от пистолетов. Ох, как грустно на душе. Хуамбо сунул пальцы в пустую кобуру, где всегда лежало голубоватое оружие, холодные часы, точно пробивающие время. «Контуры вашей страны имеют форму кобуры, — любил повторять хозяин, — и да помилуй нас бог в тот день, когда мы зазеваемся и вы вытащите из нее револьвер».
Из кабинета хозяина можно пройти в его спальню, а оттуда — на веранду. Терпко пахла смола на горячих кедровых балках, паутина, мелкие опилки, крысиный помет. Он повалился на скамью, сознавая, что отдает себя на растерзание всем паукам и скорпионам побережья. И молния, как от укуса гада, тут же зажгла его кровь. Он заскрежетал зубами и оглох; язык завернулся назад — надо проглотить волос, застрявший в глотке; рот моментально высох, сердце часто забилось, а по телу зазмеилась, забегала дрожь.
Его пробудила тишина палаты, где многие, так же как и он, покоились неподвижно в кроватях; только моргание век служило признаком жизни. Рядом с кроватью, кроме одетой в белое сиделки, — сеньорита Аурелия и Рэй Сальседо. Они тоже в белом; бесшумная обувь, теннисные ракетки. Закрыть глаза не было сил. Он остановил их, спокойные, чистые, на фигурах людей. В ушах звенел вальс певца из Омоа:
Покружись-ка со мной в этом вальсе,
но не трогай парик короля:
ведь монарха лишили на плахе
головы и короны не зря.
— Может быть!.. Может быть!..
Но он знал, что этого быть не может. Аурелия проводила Рэя до станции, двести шагов, Хуамбо тащил чемоданы, мысленно переделывая слова: «Мож… убить, мож… убить…»
Слилась с далеким морем прибрежная низина, потонула зеленая глубь в гневной синеве грозовой ночи, такой душной, что порою нечем было дышать.
Охваченная безграничным смятением, Аурелия владела собой, но, поднимая платок, чтобы смахнуть капли пота, заодно вытирала и слезы.
Далекая гроза подошла. Всплески молний в намагниченных тучах, раскаты грома, эхом сотрясающие даль; пелена, источающая капли — хрустальные гребни в гривах огненных коней, и, наконец, ливень с длинными тончайшими зубцами, чтобы расчесывать рощи и луга. Известь влажная, известь гашеная, известь темная, известь мутно-зеленая, багровая известь неба рушилась на мокрую шкуру мула-побережья.
Полную картину того, что она переживала, когда по дороге на станцию Рэй Сальседо дважды сказал «может быть», рисовала теперь стихия. Аурелия возвращалась домой одна, бегом, промокшая почти насквозь, ибо вода знала лишь одно — падать и омывать. Тучи рассыпались, как мечты. Молнии озаряли нутро грохочущей раковины. Стена дождя то расступалась, то снова смыкалась. Аурелия чувствовала, как исчезает ее белое платье, оставляя спину открытой перед бурей, обнаженной перед бесконечностью.
А до этого все было жгучим, потому что палило солнце, когда они выходили из дому, жгучим до самого ливня, камнями застучавшего в окна вагона, внезапного порыва, в котором она в последний раз прижалась влажным, горячим ртом к устам своей любви.
Лил дождь, и мокла земля лишь для того, чтобы он уехал, чтобы она осталась одна с открытой, не защищенной перед стихиями спиной, чтобы над вулканическими берегами, млевшими от зноя и ласк жаркого океана, родилась атмосфера дремы и грез, в которой тонет реальность.
— Пусть войдет лунный свет. Этой ночью твои руки трогают пустоту. Иногда свет приносят руки в драгоценных камнях росы… приносят… приносят холодные руки другого человека к твоему горящему лицу, и ты трогаешь себя, ощущаешь себя отсутствующей, чуждой, чужой. Это три разные вещи. Ты — отсутствующая, когда с тобой нет тех, кто тебя хочет и кого ты любишь. Чуждая — когда тебя мало или вовсе не занимает тот, кто считает тебя близкой, и чужая… какая страшная возможность!.. Чужая, чужая своему собственному телу, если не повторяешь рельеф твоей Центральной Америки, который так чудесно воспроизводишь, лежа на боку, согнув ноги…
Все это он сказал, любя ее своими зелеными глазами, вчера, вчера в этот час, после того, как ею обладал. Вот он сомкнул веки и лежал незрячий, прижав голову к ее обнаженной груди, как, бывало, прислонялся лбом к фигурам на барельефах, покрытых кружевом резьбы.
Она подумала вдруг об отце, сейчас, когда Рэй Сальседо ехал в порт. Назвала его Джо Мейкер. В ее представлении он был неотделим от порта. Можно спокойно лежать в гамаке. Хуамбо и ангелы-хранители, вислоухие псы, охраняют ее от всего того, что грозно затаилось в ночи.
Почему была ее первая любовь как месть? Ей не понравился порядок слов. Почему ее первая любовь была как месть? Нет, тоже не то, что хотелось сказать. Но слова не находились. Как же сказать? Отец! Отец!.. Father! Father!.. Я отдалась не из любви, а из мести; любовь была местью, но кому же я мстила?.. Себе самой, жизни, всем и тебе… Отец! Отец!.. Father! Father!.. За что я мстила себе? За кого я мстила? Какой инстинкт мною правил, когда я отдавалась, зная, что во мне будет каркать ворон — единственная музыка любви — все мои дни и все мои ночи? Отец!.. Отец!..
Вислоухие псы, ее ангелы, навостряли уши при легчайшем шорохе ветра в мокрых листьях пальм, устремлявшихся в ночное небо подобно теням-колоннам, которые где-то в высоте рассыпали листья тишины. Какой из псов поднял веки сначала? Какой потом? Оба вместе раскрыли четыре стеклянных глаза, живых, блестящих среди ресниц, и уставились на Самбито, когда тот показался на лестнице со стаканом рубиновой жидкости.
— Я принес гранатовый сок: очень жарко, — сказал Хуамбо услужливо и остановился, тяжело дыша, с подносом в руке.
— Да, хочется пить, я много курила…
— Может, ляжете… Скоро полночь… Я буду у двери, если что надо, а собак прогоню — напустят здесь блох.
Понукаемые Хуамбо псы спустились вниз друг за другом — зевающие пасти промеж вислых ушей. Он шел за ними, чтобы зайти домой, взять подстилку и растянуться потом у дверей сеньориты.
Аурелия начала раздеваться. На ней почти ничего не было. Такая жара!.. Она осталась лишь в легкой дымке голубого шелка. И пока расчесывала волосы, пока гребень скользил, звеня, вниз по темной волне, она повторяла то, что Рэй Сальседо напевал однажды, вперив в нее зеленые глаза:
Вдруг обернусь в твоих руках змеею хладнокожей,
но ты прижми меня ксебе -
супруга дорогого…
Вдруг обернусь в твоих руках оленем легконогим,
но обойми, не отпускай меня — отца ребенка…
Иль обернусь в твоих руках железом раскаленным,
но ты прижми меня к груди -
цветок своих желаний…
Странное ощущение, будто ее крепкие, крупные зубы вязнут в липкой слюне, а в виски бьет последний стих, который она уныло повторяла: «…не отпускай меня — отца ребенка… Отца ребенка…»
Машинально водя гребнем по волосам, она вспоминала слова Рэя Сальседо:
…И вопль ужаса раздался: «
Там Лин покинул нас!..»
Он стал в ее руках змеею хладнокожей,
но обняла она тогда любимого супруга…
Он стал в ее руках оленем легконогим,
но обняла она тогда его — отца ребенка…
И вязкая слюна во рту, и вялая рука, —
едва опускавшая гребень,
и те же слова в ушах: «отца ребенка…»
Он стал в ее руках мужчиной обнаженным -
набросив на него платок,
она сказала: «Мой он…»
Аурелия вытянулась в постели, длинная, обессиленная… Душные испарения не давали уснуть… Все равно что подставить лицо под безжалостную струю пара… Много раз ездила она, томясь от жары, вместе с машинистом от плантаций к порту… Можно задохнуться… Встала с постели, чтобы взглянуть, еще раз убедиться в том, в чем и так была уверена, потому что знала; створки окна распахнуты настежь, одна защита — легкая ткань… Коснулась пальцем сетки — снаружи жужжали и бились москиты, летевшие на огонь в комнату… «Там Лин покинул нас!..» Разве не была она такой же крохотной глупой мошкой, жаждавшей счастья и остановленной роком у самого его порога?.. Она легла в постель — голубое белье, груди, как барельефы, ставшие заметно больше… — с отчаянием вернулась в ту постель, где каждая ложбинка была раскалена ее телом… Каленое железо, цветок ее желаний… «Набросив на него платок, она сказала: «Мой он».