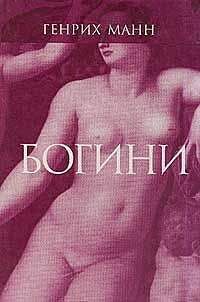На берегу, обнимая море, стоял ряд очень старых кипарисов, а над ними, на высоком холме, сверкал храм: белый храм, куда Жан Гиньоль посылал свою тоску, между колоннами которого, подернутыми, точно раковины, розовой дымкой, его стихи, сорвавшиеся с жадных уст, блуждали, ища чего-то чудесного, ища одну, из которой были рождены, для которой жили и которой не знали. Он молился ей и за нее. Он показал ей влажную глину и сказал, что эта земля ждет каждой ее прихоти, каждой складки ее тела. Он продекламировал несколько очень циничных стихов, громко, с убеждением. К нему стали прислушиваться, разговоры смолкли, дивная графиня Парадизи вздохнула… Но вдруг Жан Гиньоль замолчал.
За завесой из кипарисов реяло что-то легкое, не то голубые покрывала, не то белые пляшущие ноги. Вдруг из-за стволов выглянул светлоглазый, весь покрытый желтыми волосами фавн. Он осторожно поставил на высокую траву свои угловатые козлиные ноги. Мимоходом сорвал розу и пошел дальше, держа ее между губами. Перед поэтом он остановился и оскалил зубы; Жан Гиньоль успел только спросить, чего он хочет и что он означает. За ним уже показался старый кентавр; он хромал, его преследовали пчелы, которых он ограбил. Он попросил Жана Гиньоль освободить его. В благодарность он указал ему свой след в глине. «Вылепи это! Ты будешь доволен!» — «Вылепи и меня!» — проблеял маленький сатир, сидевший верхом на козе. Двое других приблизились к бассейну, приплясывая, с флейтами у рта; их мягкие, глухие звуки разбудили его, он стал журчать. Голубые ирисы покачивались на стеблях. Из тростника у ручья вышла нимфа, стройная, беспечная, с покатыми плечами и упругими грудями. Она неторопливо подошла к художнику и поцеловала его прямо в губы. Это была Лилиан, его бывшая возлюбленная. В строфах, в которых был отблеск ее белой кожи, в которых распускались ее огненные волосы, он сказал ей, что она прекрасна, что это по ней он тосковал что он хочет вылепить ее образ. Он начал. Но она улыбнулась и напомнила ему, чтобы он не забывал ее сестер, а также фавнов, которые пляшут с ними, и кентавров, которые смотрят на них, и сатиров, которые играют им. Затем она понеслась по сверкающему лугу со своими длинноволосыми подругами. Они взялись за руки и, подняв их, образовали арку точно из белых цветов. Похотливые смуглые фавны проползали под ними, согнувшись и скаля зубы. Козлы терлись о них.
Сад весь наполнился топотом копыт. Старые кентавры боролись друг с другом. Молодые сатиры швырнули на землю гирлянды из винограда и пузатые меха и бросились на уста и груди нимф. Какой-то седобородый фавн учил черноволосых детей в венках из мака непристойной пляске. На земле пылали лопнувшие гранаты и рядом с розами истекали кровью голуби. В красном воздухе, неведомо откуда, лилась тихая, простая, волнующая мелодия. Сзади, на красных, блистающих волнах, стремительно бросались на спину сирены. Их чешуйчатый хвост с шумом показывался из воды, распущенные красные волосы носились по волнам. Странно резкие и пронзительные звуки вырывались из их широких ртов.
— Останьтесь! — воскликнул Жан Гиньоль. И не переставая лепить, он рисовал словами их образы, один за другим, — в пластичных стихах рисовал он образы всех этих сказочных существ и все то множество ликов, в которых открывалась ему природа. Он произносил свои стихи с гордым возбуждением, властно, победоносно… Но они удалялись, радостные и яркие носились они по траве, с поцелуями, с ребяческой болтовней, среди кипучих менад, светясь на солнце нагими телами. Гирлянда из листьев сковывала всех.
— Почему вы не берете и меня с собой?!
Розы бросали отсвет на их волосы. Среди женщин одни были девственно худые, другие похотливые, полнотелые; одни — серьезные, в темных тканях, другие — нагие и радостные. Одна тащила за собой козла, другая несла на руках лебедя. Одна нагнулась на ходу к ручью и провела по нем рукой, точно по щеке Другая высоко поднимала чашу. Третья поставила свои мягкие подошвы на дерн, закружилась, запела, потом последовала за остальными. Жан Гиньоль хотел броситься вперед. Темная листва поглотила уже почти всех. Во мраке между стволами погасали краски женщин. Последняя улыбнулась ему с опушки леса, как будто обещая никогда больше не покидать его.
Оставшийся один, художник, обезумев, бросился на нее. Она исчезла — в руках у него остался большой козел. Он протащил его до середины лужайки, схватил животное, глядевшее на него ясными желтыми глазами, за жесткую шею. Он бросил ему в лицо свою ярость, свое безумное желание, свое разочарование, свое страдание из-за одной, которая убежала от него в вакханалии всех тех фигур. Он не поймал ее, она многообразна. Она ни нимфа, ни менада, она и фавн, и бассейн, и пчела — и ты!..
И он опустился на колени перед козлом, в тоске, в отчаянии, охваченный гнетущим предчувствием.
Эту сцену нашли странной, но не лишенной очарования. Из-за кипарисов иногда выглядывало лицо с приплюснутым носом. Жан Гиньоль в бешенстве ударил топором по стволу, из него выпрыгнула окровавленная дриада и шмыгнула в чашу. За его спиной медленной, плавной походкой прошла Флора в сверкающей красной диадеме и красном одеянии. По всему саду трепетали пылающие пятна. У ели была длинная ржаво-красная борода как у козла. Ветер плакал в пиниях. Солнце, кровавым клубком свернувшееся на поверхности моря, точно собиралось вкатиться на середину лужайки, зажигало старый сказочный мир, зовя его к судорожному пробуждению, к короткому, пугающему усилию, к высокой, сильной, ужасной жизни.
Это чувствовали все; стихи Жана Гиньоль, пропитанные всеми красками солнца, вихря, любви, вливали это всем в кровь. В высоком амфитеатре царила тишина; слышен был скрип кружев под руками, кряхтенье Рущука и шепот дона Саверио над грудью дивной графини Парадизи. Чего-то ждали; ждали богиню, которую призывал поэт, — так, как будто она должна была выступить из его стихов. Она была уже здесь, частица блаженства, ее тело было уже в этих звуках, в этих криках уже чувствовался его ужас. Козел оскалил зубы и шмыгнул в чащу. Кипарисы тяжело зашумели. Жан Гиньоль оборвал. Его поэма казалась ему в этот момент чем-то непредвиденным; он забыл, кто была приближавшаяся.
Она стояла на берегу, опустив голову, и рассматривала раковину, которую держала в правой руке Левая лежала на груди. В прозрачных покрывалах серебристо выделялось тело; за ее спиной солнце погружалось в море. Вокруг ее щиколоток висели водоросли, тащившиеся за ней при каждом шаге ее длинных, гибких, дивно закругленных ног.
Она приблизилась к художнику, с раковиной у уха, безучастно улыбаясь. Он ждал, согнувшись, вяло опустив руки — в одной из них был лавровый венок — и застыл в бессилии и покорности. Она равнодушно села на край бассейна и скрестила ноги. Большие голубые ирисы тянулись вверх к ее грудям.
— Иди же сюда, — монотонно и ласково сказала она, — посмотри на эту раковину и потом поищи на моем теле места, похожие на нее. Там есть такие.
Он спросил:
— Кто ты? Откуда ты? Что ты означаешь?
Она засмеялась.
— Кто ты? — дрожа повторил он. — Плененная царевна, выброшенная на берег после кораблекрушения и гибели своего похитителя? Или ты дитя рыбака, и твои груди часто согревали береговой песок, такой же мягкий, как они? Или твои члены привыкли к прикосновениям виноградных гроздей, которые касались их, когда ты пробиралась сквозь них к своему тихому дому, с глиняным кувшином на голове?
— Возьми мои черные волосы в руки, — сказала она, тряхнула головой, и тяжелые косы упали на гонкий и крепкий затылок. — Посмотри, мои черные волосы пахнут совсем так, как черная тень между кипарисами, на которой пышно цветут розы. Эти розы расцвели одновременно с моими грудями. Коснись их губами.
— Или ты одна из тех, в тусклой улыбке которых уже виднеются слезы, — из тех, что носят серые одежды и забыли все песни; из твоих вялых пальцев выпадает плетеная корзина с последними полусгнившими плодами; из тех, что плачут рядом по любви, со сломанным, волочащимся по земле крылом?
— Я хочу плакать, — сказала она. — Прислушайся, нет ли в моем плаче бледной нимфы, капля за каплей выливающей чашу.
— Или ты одна из тех, чье носящееся в пляске тело отражается в блестящих мраморных плитах, чью пляску пронизывают пылающие взгляды мужчин, — одна из тех, что, упав на цветы, в чаду от вина и крови, задыхается в оргии?
— Ты хочешь, чтобы я плясала? Берегись, чтобы из каждого моего шага не выскочила менада и не разорвала тебя!
— Или ты…
— Остановись! Ты угадал, я куртизанка, меня берут, все имеют на это право, ты не меньше других.
— Но я хочу знать…
— Мой бедный брат с глазами мечтателя! Неужели ты не видишь, что я женщина и больше ничего? Посмотри, мои бедра извиваются, как сирены в волнах. Послушай, в моем смехе множество птичьих голосов, а в моем молчании жужжание пчел. Когда по моей коже пробегает трепет, то точно течет ручеек, точно оживает цветочный луг. Возьми бархатные мшистые клумбы моего тела вместо подушек! Пусть мои взоры, точно флейты сатиров, пробудят источники твоего желания! Освежи свои руки на выпуклостях моего тела, словно на песчаных холмах у моря! Удержи во мне нимфу, чтобы она не ускользнула опять! Поймай торопливую дриаду! Фавны и дети в венках из мака пляшут во мне свой хоровод. И старый кентавр, еще более мудрый, чем ты, смотрит во мне на все это. Но молодой предлагает мне свою лошадиную спину, и я мчусь на нем прочь, подняв руки вверх. Схвати меня: ты схватишь похотливую толстуху с нарумяненными щеками, увенчивающую чертополохом рога черного козла, и, худую девственницу, такую робкую, что она бежит от тебя в самую глубину твоих грез. Обними меня: ты обнимешь землю и море! Обними меня!»