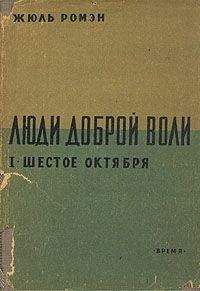Война. Жерфаньон с самого детства живет под проклятым знаком войны. Когда ему было шесть лет, о чем говорили ему в сельской школе? О метрической системе, но и об Эльзасе-Лотарингии, о Рейхсгофене, Вскоре после того, как он понял, что такое черт, он услышал имя Бисмарка. Среди товарищей «Пруссак» было еще страшным ругательством. На обложках школьных тетрадок он видел Мак-Магона, Шанзи, Федерба. Стоит ему подумать об этом, от воспоминания об этих пестрых страницах на него веет запахом не только бумаги, но и обиды, поражения. Под картинкой всадника в треуголке подпись хвасталась жалкой местной победой: Кульмье, Бапом. Даже шестилетний ребенок понимал, как были горьки и жалки такие утешения. Подняв голову над партой, надо было созерцать карту Франции, желтые или зеленые тона которой были бы так веселы без этого густого, серовато-лилового пятно у выступа Вогезов. Казалось, по классу порхает, как пара летучих мышей, черный двойной чепец потерянных провинций. Дитя Велэй не решалось любоваться видом своих гор. В хрестоматии рассказы о вольных стрелках, осаде Парижа, штыковых атаках. На уроках декламации он учил «Трубу» Деруледа, страницы из «Страшного года». Жерфаньону еще мерещатся все эти кепи, эти длинные бороды, вся эта толпа не то солдат, не то бродяг, вся эта вторая империя, издыхающая в грязи и хаосе, которую рисовали ему виньетки книг и даже десертные тарелки на семейных торжественных обедах; потому что в тот момент, когда по рюмкам разливали ликер и когда взрослые начинали говорить все разом и очень громко, — ребенок, отодвинув пирожное, обнаруживал под ним битву при Шампиньи, бивуак западной армии, Гамбетту в корзине воздушного шара. А когда затевались игры, всегда находился какой-нибудь старый болтун, отрастивший себе императорскую эспаньолку, который похлопывал мальчика по щекам со словами: «Ты, малыш, принадлежишь к поколению реванша».
Позже, в лицее Пюи, а затем в Лионском лицее, наваждение ослабело. Но до слуха ребенка стали доноситься голоса улицы, публичные толки. И от них опять-таки веяло духом войны. Самое раннее воспоминание его гражданской жизни — это осуждение капитана Дрейфуса, а обвинен был Дрейфус в том, что выдал Германии некоторые средства предстоящей войны. Второе его гражданское воспоминание — это франко-русский союз, чье-то путешествие, не то президента, не то царя, и радость, бодрость, разливавшиеся даже по деревням при мысли, что уже мы не будем одни, когда грянет война.
Потом — Фашодский инцидент, когда легче было от сознания, что на этот раз не о Германии речь и что неприятель грозит с другой стороны, как мигрень меняет место в голове. Потом — передышка Всемирной выставки с музыкой танцев и смешением наций, интересующихся одна другою, но без дружелюбия, как на пляже — курортные гости. Заря нового века, слишком долгожданная, заранее утомленная, не в меру яркая от поддельного блеска, спустя несколько часов уже избороздившаяся страшными зарницами войны.
Вот уже, впрочем, десять лет, не довольствуясь зловещими знаками, война принялась бродить вокруг Европы, покусывая ее, вгрызаясь в разные концы: испано-американская война, англо-бурская, русско-японская. Каждый раз становились ярче зарницы, громче грохотало вдали; и в самые мирные города Запада предвестник-ветер заносил листья и пыль.
Жерфаньон смял газету, бросил ее в угол. «Не сегодня. Не хочу больше думать об этом». Он уселся в коридоре, прижался лбом к стеклу, обратился мыслями к спокойной прелести осени, к молодости своего тела, к личным поводам радоваться жизни.
«В конце концов, у меня есть своя судьба. Она свежа, дерзка, нетронута. Многие переживали свой двадцать второй год при худшем беспорядке в мире и при более грозных предзнаменованиях. Главное — иметь от роду двадцать два года. Когда я говорю: мир начинается со мною, — то был бы идиотом, рассчитывая, что по этой причине все устроится согласно моим желаниям. Но я мудрец, если понимаю это в том смысле, что буду направлять свою жизнь как совершенно новый ряд событий, для которых прочий мир должен предоставлять место и поводы. Моя задача — быть настолько сильным, чтобы даже судороги Европы стали одним из моих эпизодов».
Приблизительно в половине пятого г-н де Шансене, только что проехавший в автомобиле по мосту Пюто, и Кланрикар, шедший по улице Кюстина, близ улицы Клиньянкур, испытали оба довольно сильное волнение. Шансене ехал к автомобильному заводчику Бертрану. Свиданье назначено было третьего дня. Предстояло закончить дело, которое, по-видимому, интересовало Бертрана, но само по себе не представляло интереса для Шансене и его группы. Бертран вознамерился назвать своим именем определенный сорт бензина для двигателей и рекомендовать своим покупателям пользоваться исключительно этим сортом. Однако, он не имел средств ни фабриковать, ни держать на складе, ни распространять этот бензин. Поэтому он предложил нефтепромышленникам такую комбинацию: они фабрикуют для него бензин не специальный, а несколько отличающийся по вязкости от обычного; наполняют им сосуды особой формы; берут на себя его распространение и продажу под маркой «бензин Бертрана», а Бертрану отчисляют по десяти сантимов за каждый проданный под его именем двухлитровый бидон.
Шансене, собиравшийся сперва отклонить это предложение, придумал затем способ сделать его более заманчивым для нефтепромышленников. В инструкцию для покупателей Бертран мог бы ввести совет опорожнять совершенно картер двигателя после каждых полутора тысяч километров. Раньше соблюдали редко это правило. Обычно просто подливали бензин, когда уровень понижался; и находили, что он и то уж понижается очень быстро. Шансене вычислил, что периодическое опорожнение картера, практикуемое более или менее исправно частью владельцев автомобилей Бертрана, — а машин этой марки, различных типов, было тогда в ходу двадцать пять тысяч, — способно повлечь за собою дополнительный спрос на бензин, превосходящий двести пятьдесят тысяч литров в год. Автомобилистов того времени ни на минуту не покидал страх за исправную работу и долговечность их машин. Даже самые беспечные по природе жили в хронической тревоге и едва лишь пытались от нее отделаться, внезапная поломка опять их ввергала в нее. Знакомому с пружинами их психологии ничего не стоило поэтому, побудить каждого из них истратить лишнюю сотню франков за год. С другой стороны, Бертран, по слухам, имел некоторые сильные связи в политических кругах. Шансене собирался попросить его воспользоваться ими в защиту нефтепромышленников при предстоящем запросе. Такой союз был бы одним из тайных условий сделки.
Проезжая по Булонскому лесу, Шансене в уме резюмировал вопросы и доводы, которыми готовился воздействовать на Бертрана. Он изобретал также формулы для рекламы, которую им предстояло выработать сообща. «Затратив сантим на бензин, вы сберегаете франк на ремонте». Шансене в четвертый или в пятый раз прислушивался к этой фразе, когда оставил за собою мост Пюто.
В этот миг он увидел много людей в картузах и рабочей одежде, прислонившихся к перилам моста с обеих сторон. Подальше, — на другом берегу Сены, такого же обличья люди образовали толпу. Они стояли почти неподвижно. Занимали мостовую и тротуары, почти не оставив свободного проезда для экипажей. Эта толпа, в довольно ярком свете заходящего солнца, имела какой-то землистый оттенок. Она походила на только что вспаханное поле.
Внезапное беспокойство охватило Шансене. Он сказал шоферу:
— Тише ход!
Только стыд помешал ему повернуть.
Он продолжал прерывистым голосом:
— Смотрите, никого не заденьте… Что же это, забастовка? Нельзя ли нам двинуться в объезд?
Машина уже вкатилась в толпу. Шофер трубил, не без нетерпения. При звуке рожка лица поворачивались в сторону автомобиля. Они находились вплотную перед Шансене. Ему показалось, что никогда еще он не видел столько рабочих лиц, столько лиц из народа. Молчаливые и напряженные лица. Едва ли угрожающие, если под угрозой понимать возможность близкого перехода к действию; но очень страшные, так как чувствовалось, что в их глазах допустимо всякое действие. Автомобиль еле подвигался вперед. Шансене почти невольно высунул руку из окна, чтобы трогать шофера за плечо и внушать ему осторожность. Он рисовал себе, как автомобиль толкнет кого-нибудь крылом, собьет с ног; и как сразу же вокруг сгустится толпа, подымутся крики, рев, автомобиль будет отброшен к Сене, опрокинут в воду вместе с седоками.
У него было такое ощущение, словно ему открылась действительность, нелепая и несомненная, после особого бредового сна. Переговоры с Бертраном, подсчет потребляемого количества бензина, отчисление десяти сантимов за бидон, парламентские связи… ему нужно было сделать усилие, чтобы продолжать думать, что эти отвлеченные сновидения все же соответствуют существующим вещам. А между тем он не имел привычки волноваться по пустякам. Умел закрывать глаза, чтобы устранять видимости, стеснительные для его мировоззрения. На этот раз глаза упорно оставались открытыми и показывали ему лица, взгляды, картузы, звенья упругой толпы, в которой застревал автомобиль и где каждый поворот колеса казался последним.