Пани Миклова едва поздоровалась с Дубцом. Он хотел было поцеловать ей ручку, но она не позволила, не дала и потрясти по-дружески, быстро и энергично высвободив ее из его огромной лапы. У нее упало сердце, когда она поняла, что нельзя не пригласить его в дом. Она всячески тянула с обедом, надеясь, что он уедет. Но Дубец словно врос в землю. Пришлось предложить ему отобедать.
За столом Дубец, мило улыбаясь, рассказывал о приключившемся. В то же время он мысленно сравнивал худые, усыпанные крупными веснушками и потемневшие руки старой пани с полными, округлыми, загорелыми руками Желки. Лицо хозяйки, бесцветное, вытянувшееся, со впалыми щеками, с дугами морщинок вокруг тонких губ — с молодым, веселым, загорелым, пышущим здоровьем, с упругими щеками и сочными губами личиком молодой гостьи. Он сравнивал старую, покрытую сеткой морщин, с ямками между ключицами шею тетки — с красивой шеей и упругой девичьей грудью Желки, острый подбородок и локоть слушающей его пани Микловой — с крепкими овальными плечиками барышни Петровичевой.
Сравнение навело его на мысль, что старым женщинам никогда не следует садиться рядом с молодыми девушками: контрасты весны и поздней осени слишком бросаются в глаза. Как странно устроено, что человек созревает на заре жизни, весною, а все в природе — осенью.
Желка прекрасна; она — полное, спелое, красноватое пшеничное зерно, а старая пани — тощее, желтое ячменное зернышко.
Ландика Дубец даже не задел взглядом, да и не упомянул о нем в своем рассказе. Себя он, конечно, выдвинул на первый план. Когда он сказал, как бричка перевернулась, тетка испугалась почти так же, как Желка в момент падения. Вскочив, она закричала:
— Зачем же вы беретесь за вожжи! Какое несчастье могло случиться! В другой раз я вам не позволю. Я отвечаю за Желку.
И при этом она сердито смотрела на Ландика.
— Я ему говорил, — кивнул Дубец в знак согласия.
Ландик молчал. Ему было больно, что уже третий раз его упрекают в неумении править, а тетка даже запрещает ему брать лошадь. Что ж, ладно, он больше и не дотронется до коней. Ноги его здесь больше не будет.
Увлекшись, Дубец заговорил о различных кооперативах, зерновых синдикатах, заработной плате, рационализации, производстве, экспорте, импорте, промышленности, картелях, трестах. Поговорив о ярмарках, он стал толковать о торговле скотом и денежных операциях, об инфляции, девальвации. Потом, вырубив все леса, потравив все пастбища, выкормив волов, подоив коров и продав все с высокой прибылью, он дошел до банкротства государства.
Чтобы объяснить экономический кризис Желке попонятнее, он стал уверять, будто одной из причин кризиса является так называемая «тонкая талия». Женщины уже не пьют ни молока, ни кофе, не едят масла, сыра, брынзы, мучных блюд, печенья, булок, хлеба — все чтоб не пополнеть. Все это, разумеется, идет во вред крестьянам.
Ландику опротивело это общество. Он почувствовал себя нищим среди господ, которые не обращают на него внимания. На душе стало тоскливо, тянуло уйти. Он откровенно зевал, назло всем, как бы подчеркивая этим, что разговоры Дубца неинтересны и глупы. В душе он ругал всех, и особенно Желку: слушает этого медведя и не замечает в его громком голосе, широких жестах сытого, самоуверенного спокойствия, за которым скрывается ненасытность и хищная алчность…
Даже три перламутровые пуговки на белых галифе Дубца, над самым голенищем, и те казались ему отвратительными.
Едва дождавшись конца обеда, Ландик незаметно исчез.
Желка посидела еще минуту, но вскоре и она вышла под каким-то предлогом. Дубец остался с пани Микловой.
— Прелестная девочка, — заметил Дубец вслед уходящей Желке. — Роза.
— Разве у вас дома мало таких? — гневно возразила тетка.
— Таких мне всегда мало.
— Жаль было бы привязывать такую розу к колу.
— Каждой розе нужна опора.
— Но не каждому колу — роза.
Грубее, кажется, не скажешь, но с Дубца все как с гуся вода.
Он возразил:
— Человек никогда не насытится красотой.
— Но обессилит себя и расшатает розу постоянным подпиранием.
На скатерти, рядом с прибором Дубца, хозяйка заметила пятно от черники. Гость уронил ягоду, когда ел варенье.
«Надо будет постирать скатерть», — подумала тетка и, пригнувшись к кустикам волос, торчащим из уха гостя, вполголоса произнесла с таинственным видом:
— Оставьте Желку в покое. Молодые люди влюблены. Из брички-то вы его выбросили, но из седла не вышибете.
— А кто он, собственно?
Получив разъяснение, Дубец протянул:
— Та-а-а-к?
Это длинное «та-а-а-к» было сказано неспроста. «Пан председатель» только сейчас по-настоящему почувствовал себя оскорбленным. Какой-то писаришка вздумал соперничать с ним и обучать его, Дубца, правилам езды! Вот она, сегодняшняя молодежь! У нее нет уважения к заслуженным людям, она не признает никаких авторитетов! Надо показать этому «комиссаришке», где раки зимуют. При встрече с министром он расскажет ему, какие у него чиновники. Откуда же при таких чиновниках взяться хорошему государственному аппарату?
В голове благородного «пана председателя» Дубца родились такие же замыслы, какие в свое время вынашивал Толкош, почетный мясник и член городского правления в Старом Месте.
— Да и не пойдет она к старому пню, — прошептала тетка.
Дубец уехал. «Роза» была где-то наверху и о чем-то раздумывала. Он даже не смог с ней проститься и попросил передать ей сердечный привет.
«Как же, передам, дожидайся!» — злорадствовала про себя старая пани.
Бедняга Ландик в это время стоял над раскрытым чемоданом и укладывал белье, одежду, обувь, галстуки. Он бросил туда же и белые перчатки — и воспоминания…
Тетка ошиблась: любви не было, она выпала из перевернутой брички. Ни с кем ничего не случилось, только любовь погибла.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Красные босоножки
Семейное решение — выбить клин клином, а старую любовь новой — было неплохое решение. Да только ничего не вышло. Клин надломился, новая любовь оказалась слишком слабой и сразу погибла, когда бричка перевернулась.
Доктор Ландик вернулся в Старе Место, чтобы «приступить к служебным обязанностям». За время его отсутствия в окружном управлении произошло то, что обычно случается в каждом учреждении, а именно: когда чиновник возвращается после отпуска, его ждет груда неисполненных деловых бумаг. Летом больше всего отпусков и, следовательно, больше непросмотренных дел. Поэтому-то работа государственного аппарата в летнее время напоминает езду на санях в августе. Это происходит благодаря дисциплинированности или «дисциплине» и предупредительности сослуживцев, которым такт не позволяет вмешиваться в «компетенцию» своего коллеги и притрагиваться к его работе. Пусть уж и она отдохнет, а иначе чиновник отдыхал бы и после отпуска, что не положено.
К тому, что накопилось много служебных бумаг, Ландик отнесся довольно благодушно. Огорчала и раздражала его неопределенность «дела» с Ганой. Однажды, разыскивая что-то в шкафу, он наткнулся на сверток с красными босоножками. Пакет был перевязан цветной тесемкой с прикрепленной к ней деревянной палочкой. И на тесемке, и на палочке, и на крышке, и на стенках коробки — всюду медали, изображение женских ног и название известной фирмы «Йозеф Зелень, производство обуви в Старом Месте».
Босоножки все же надо отдать. Уже месяц прошел с тех пор, как он купил их для Ганы. Вот отдаст, и — конец. Поговорит с ней последний раз. Посмотрит, как она теперь выглядит. Узнает, что с Толкошем, его соперником, сделал ли он предложение, или все еще нет… А потом все.
Увидит, отдаст и уйдет.
С любовью как с сыпью… Врач твердит: «Не чешись, иначе сыпь пойдет по всему телу». Но тело зудит, хочется почесаться. «Почешу немножко, — думаешь ты, — и полегче станет, и не повредит». Когда человек влюблен, у него всегда что-то зудит, что-то беспокоит. Почешешься — и любовь заполняет все сердце.
Ландик не был исключением. «Отдам и уйду навсегда», — говорил он себе. Но зуд именно так и начинается.
Ему станет легче — и только. И ничего не случится. Так хотелось пану комиссару, но удовлетворится ли этим любовь?
Ландик справлялся не там, где следовало. Вместо того чтобы заглянуть в свое сердце, он искал ответа в книгах. Уж если с точки зрения общественной морали он совершил проступок и пренебрег своим служебным положением, ухаживал за кухаркой Ганой, то еще больший грех — сделать ей подарок, рассуждал Ландик.
Он просмотрел служебный устав. Там сказано только, что служащему запрещается принимать подарки, в чем бы это ни выражалось — в деньгах, денежных ценностях или в виде какой-нибудь льготы, преимущества. Следовательно, делать подарки он может: Ландик проштудировал и закон о взяточничестве номер 178 (Сборник законов и распоряжений 1924 года). Тут его на минутку взяло сомнение: а не является ли Гана банковским служащим, ведь она служит у директора банка? Банковские служащие приравниваются к государственным служащим, если их банк находится под государственным контролем. Сейчас почти все банки под государственным контролем. Гана, может быть, — а Бригантик не дремлет, — принимает служебную корреспонденцию своего хозяина, носит ее в банк или из банка, с почты или на почту. Это функция служащего. Тогда Гану следует считать служащим. Но в таком случае делать подарки нельзя. Нарушение закона строго карается. В этом мало хорошего… Начнешь читать законы — и окончательно запутаешься… Ландик взял когда-то в банке ссуду в пятьсот крон и хотел бы еще взять… Вот и выходит, что он дал государственному служащему красные босоножки, чтобы подкупить его… Гана, правда, ссуд не выдает, но она может оказать влияние на директора, который распоряжается ссудами. Взятка налицо… Если бы судьей был Бригантик, шеф Ландика, дело в шляпе.
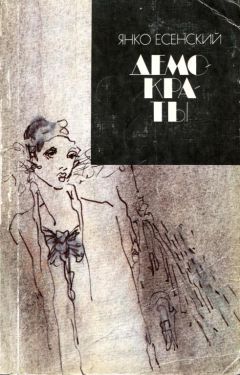

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


