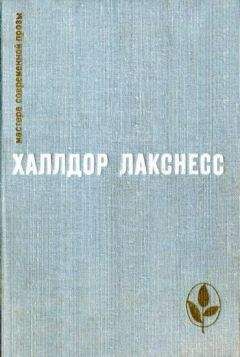Доктор Буи Аурланд вошел, улыбаясь, с мокрым от дождя лицом, снял пальто и сообщил, что у него хорошие новости.
Я ждала.
— Думаю, могу с уверенностью сказать, что мне наконец удалось выцарапать из альтинга несколько тысяч крон для вашего отца на постройку церкви.
— А-а…
Он удивленно посмотрел на меня.
— Как? Вы не бросаетесь мне на шею?
— Из-за чего?
— От радости.
— За это время я узнала, что Лютер был самым невоспитанным человеком в мире, и перестала верить в бога.
— Черт возьми! — Он вытер лицо и очки. — Но почему мы не можем верить в человека, даже если он иногда читал молитвы на плохом немецком языке вместо латыни и упоминал о детородном члене осла в какой-то неясной связи с папой? Он все же был достаточно крестьянином и поэтому мог даже в эпоху Возрождения серьезно относиться к христианству, когда вся Европа уже перестала им интересоваться. Благодаря этому он спас свое церковное предприятие. Кроме того, старик Лютер, как и многие немецкие крестьяне, был музыкант.
— Я не знала, что вы сторонник Лютера.
— Я и сам этого не знал, — рассмеялся он. — Я думал, что в области христианства мне ближе всего папа, который явно ни во что не верит. В альтинге я привык поддерживать доброго Иисуса Христа главным образом потому, что я согласен с Марксом, который видит в религии опиум для народа.
— Другими словами, вы материалист?
— Как давно я не слышал этого слова в таком смысле. В экономике мы применяем его несколько иначе. Но если вы искренне спросили о моем вероисповедании, я отвечу вам так же искренне: я считаю, что w равно mc2.
— Что это за чепуха?
— Это теория Эйнштейна. Он уверяет, что масса, помноженная на скорость света в квадрате, равна энергии. Но может быть, материализм считает, что материи, как таковой, вообще не существует?
— Я не знаю ни Эйнштейна, ни его теории, — ответила я. — Но скажите, почему вы все-таки стараетесь раздобыть денег на постройку церкви в северной долине, где и людей-то почти нет?
— Когда я узнал, что ваш отец верит в божественность лошадей, я обещал самому себе сделать для него все, что смогу. Дело в том, что однажды мне было видение, как случается со святыми: мне открылось, что, не считая рыб, лошади — единственные живые существа, имеющие душу. Это потому, что у них только один палец на ноге, а один палец — это совершенство. Лошадь обладает душой, подобно божеству, или картинам некоторых художников, или прекрасной вазе.
Как легко, почти рассеянно он говорил о самых невероятных вещах с учтивой улыбкой воспитанного человека, всегда готовой перейти в зевок. Он действительно зевнул, достал сигарету и закурил. Я смотрела на него, и земля исчезала у меня из-под ног, потом исчезли ноги, и мне пришлось собрать все силы, чтобы совершенно не исчезнуть из материального мира. Я взяла себя в руки.
— Я слышала, что богатые, как и в прежние времена, хотят обречь незаконнорожденных детей на голод и смерть и собираются принять закон о том, чтобы сечь их отцов и топить их матерей, если те будут поддерживать свои народные организации. Верно это?
— Да. — Он любезно улыбнулся. — Все во имя добродетели! Таков наш предвыборный лозунг, дорогая. Наши жены хотят иметь законнорожденных детей, во всяком случае на бумаге. И предпочитают не иметь конкуренток. Ясли — это покушение на сословие жен.
— Мне очень хочется задать вам вопрос.
— Я хотел бы суметь ответить на все ваши вопросы.
— Можете ли вы спокойно жить в богатстве, когда грудной ребенок в дождь и бурю должен находиться во дворе под открытым небом?
— Это вопрос трудный. — Он почесал за ухом. — Думаю, что я не смогу на него ответить, во всяком случае, сначала мне нужно посмотреть, что это за двор.
— Почему альтинг и городской муниципалитет не хотят, чтобы мои дети воспитывались в яслях? Чем мои дети химически и физиологически хуже ваших? Почему у нас не может быть такого общества, которое одинаково заботилось бы о моих и о ваших детях?
Он подошел ко мне, положил руку на голову и спросил:
— Что случилось с нашей горной совой?
— Ничего. — Я отодвинулась.
— Нет, что-то случилось. Ваши мысли никак не могут вырваться из какого-то замкнутого круга. Что с вами? Отчего вам с каждым днем становится все хуже и хуже?
— Я хочу уехать, — простонала я.
— Куда и когда?
— Сегодня же.
— Сегодня вечером? В такую погоду?
— Вы голосовали против меня, и мне негде приклонить голову. — И я рассказала ему обо всем.
Он перестал улыбаться и замолчал. Потом спросил:
— Вы любите этого человека?
— Нет… да… не знаю…
— А он вас?
— Я его об этом не спрашивала.
— Вы хотите пожениться?
На такой нелепый вопрос я могла только отрицательно покачать головой.
— Он беден? Могу я что-нибудь для вас сделать?
Я повернулась, посмотрела на него и сказала:
— Вы теперь знаете даже больше, чем он, и мне нечего к этому прибавить.
— Я больше ни о чем не могу спросить вас?
— Я даже не знаю, кто этот человек, так что спрашивать бесполезно. Я незамужняя мать, вот и все. Вы голосовали против меня. Если бы у меня не было моих бедных стариков родителей, мой ребенок родился бы бездомным, а такого ребенка — как говорится в сагах — нельзя переправлять через реку, нельзя кормить, нельзя о нем заботиться.
Он посмотрел на меня вопросительно, почти со страхом, как будто увидел приближение опасности, которую давно ожидал, и машинально повторил:
— Я голосовал против вас? — И он закусил ноготь большого пальца. Но когда я хотела уйти, он пошел за мной: — Не волнуйтесь, вы получите от меня деньги, дом, ясли — все, что вам нужно.
— Вы публично голосуете против того, чтобы я и мне подобные назывались людьми, и хотите сделать меня нищенкой, тайком берущей у вас милостыню.
— Почему тайком? Ведь это не наша с вами тайна.
— Я уеду, рожу дома ребенка и буду воспитывать его на свои средства. Я предпочту все, что угодно, только не брать деньги у мужчины.
Не успела я подняться в свою комнату, как он вошел следом за мной. Он открыл дверь, даже не постучав. Минуту назад у него было напряженное выражение лица, может быть, он собирался всерьез отстаивать передо мной свои принципы, а теперь взгляд его стал искренним, и это делало его похожим на ребенка.
— Насколько я знаю наших красных друзей, они скоро снова поднимут вопрос о яслях. И на этот раз он может быть решен иначе. Я поговорю с шурином и другими влиятельными лицами. Ясли будут построены.
— А если ваш шурин откажет? А сословие жен?
— Вы издеваетесь надо мной. Ну что ж. Я ведь и не пытаюсь изобразить из себя героя. И все же я обещаю, что по этому вопросу я буду выступать так, будто меня вдохновила женщина.
— Беременная прислуга, — поправила я.
— Женщина, которой я восхищаюсь с первой минуты.
— Один человек в припадке пьяной откровенности сказал мне, что я из породы тех женщин, с которыми мужчинам хочется лечь в постель в ту же минуту, как они их увидят.
Он подошел ко мне и обнял.
— Есть такие женщины, что мужчина, встретив одну из них, в ту же минуту забывает всю свою жизнь, как нечто бессмысленное. И он готов порвать все узы, связывающие его с окружающими, и пойти за этой женщиной на край света.
— Нет, я не поцелую вас, — сказала я, — если вы не обещаете никогда не давать мне денег. Я хочу сама зарабатывать свой хлеб как свободный человек.
Он поцеловал меня и что-то проговорил.
— Я знаю, что я ужасно глупо себя веду, — сказала я потом. — Но что же мне делать: вы ни на кого не похожи.
Церковь воздвигается в долине, скрытая с восточной стороны холмом, на котором расположился дом. С хоров виден зеленый склон. Еще прошлой осенью начали кладку стен, но на крышу денег не хватило. Стены так и простояли до весны, пока от правительства не были получены средства на постройку церкви.
Я сижу в расщелине у ручья, где запах осоки зимой сильнее, чем летом. Здесь мы в детстве играли коровьими рогами и овечьими челюстями и черпали ржавыми жестянками воду из ручья, которая была для нас то шоколадом, то мясным супом, то водкой. А позже здесь в течение трех летних ночей стояла остроконечная палатка. Я сижу и прислушиваюсь к ударам молотка и посвистыванию ржанки.
В старые времена церковный приход состоял из двенадцати дворов, некоторые говорят — из восемнадцати. Но в прошлом столетии церковь была разрушена.
А теперь здесь снова воздвигается церковь, хотя в долине осталось всего три двора, а один из них — двор Йоуна из Барда — вряд ли можно принимать в расчет. Жена Йоуна умерла, дети уехали на Юг. В доме его больше не разводится огня. Он горит только в душе Йоуна. А его религия — это скорее вера в божественность лошадей, чем в единого бога. Йоун всегда называл церковь боговой конюшней, а священника — жеребенком в этой конюшне душ. Ни я, ни кто другой не слышали от него иных благочестивых слов, кроме «Отче наш», а читал он эту молитву, как и все в нашей округе: «Отче наш, ай-яй-яй! Опять эта проклятая гнедая кобыла изгадила весь луг!» Эту молитву он читал и утром и вечером.