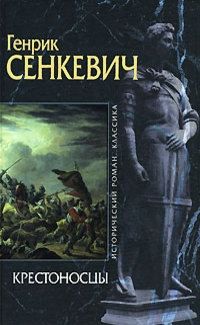У Плавицких, как у всех помещиков средней руки, были родственники, которых они чурались, но были и такие, которые чурались их самих, – не то чтобы из гордости; это получалось как-то само собой, в силу некоего закона социального отбора, сближающего людей более или менее одного общественного уровня. Однако важнейшие семейные торжества на время скрепляют ослабевшие семейные узы, и Машко не просто льстило, что на свадьбе его будут сливки общества, – он рассчитывал в будущем извлечь из этого выгоду для себя. Надо только ловко намекнуть им, как удобно и надежно для них поручить свои дела известному своей энергией адвокату, причем не постороннему, более того: родственнику. Дать им понять, что это доброхотное даяние с их стороны как бы на приданое бедной девушке. Приняв все это в соображение, Машко решил, что сумеет войти к ним в доверие, а со временем и прибрать к рукам. Сначала, по расчетам Машко, будут просто между прочим, в разговоре спрашивать совета как у знакомого или дальнего родственника, больше сведущего в юридических закавыках; если же советы окажутся дельными, станут обращаться все чаще и в конце концов во всем положатся на него. Таким образом, помогая им, он поможет себе. Расширит поле своей деятельности, очистит Кшемень от долгов и, нажив состояние, бросит наконец адвокатскую практику, которой занимался лишь поневоле, рассматривая ее как средство для достижения цели: занять высокое положение, подобающее человеку со средствами и крупному землевладельцу, представителю большой и сильной общественной партии. Прежде чем сделать предложение Марыне, он все предусмотрел, рассчитал и взвесил.
Не предусмотрел только, что может влюбиться.
За это он порядком рассердился на себя, поскольку полагал, что светский человек, как и во всем, в любви должен быть умерен: одно из его стойких заблуждений. Принадлежи он к высшему обществу по рождению, а не старайся в него втереться, он не боялся бы любить, как диктует сердце. Несмотря на весь свой ум, он не понимал, что высшая привилегия этого почитаемого привилегированным общества есть свобода. И поэтому был не очень доволен собой, теряясь против обыкновения и млея в присутствии Марыни. Но вместе с тем цель, к которой он стремился, стала постепенно сливаться в его представлении со счастьем, которым наслаждался он до упоения.
Все это было ново для него, настолько, что даже слепило открывшимися перед ним горизонтами. Дожив до тридцати с лишним лет, Машко не знал, что такое увлечение, и лишь теперь понял, сколько в этом прелести и очарования. Случалось, Плавицкий принимал его у себя, и, если Марыня была в соседней комнате, он мыслями переносился к ней, с трудом понимая, о чем идет разговор. При ней же им овладевали смягчая и облагораживая, неведомые ему дотоле умиление и нежность. Его голубые глаза утрачивали к такие минуты холодный, стальной блеск и глядели с кротким, восторженным выражением; красные пятна на щеках, придававшие ему некоторое сходство с Васковским, рдели еще ярче; вся важность соскакивала с него, и свои темные бакенбарды теребил он не как английский лорд, а как простой влюбленный смертный. О ее счастье думалось ему как о своем – потому, наверно, что добро рисовалось в его и только его, Машко, обличье: вот до каких высот он дошел.
Любовь его возросла настолько, что, отвергнутая, могла стать опасной, особенно при его безудержной решительности и отсутствии твердых нравственных правил. До той поры он не любил, и Марыня первая разбудила его сердце. Не красавица, она в высшей степени обладала тем, что называется очарованием женственности, – это и делало ее особенно привлекательной именно в глазах мужчин решительных, энергичных. Ее грациозная фигура приводила на память гибкое растение, и, хотя наружность не была чем-либо примечательна, приглядевшись, каждый, не обладая даже воображением, не мог не ощутить: есть в этом открытом лице, ясном взоре, немного чувственных губках нечто влекуще-незаурядное, достойное любви.
Но если Машко, сознавая это сам, становился лучше, то Марыня после переезда в Варшаву чувствовала себя душевно оскудевшей. Продажа Кшеменя лишила ее привычных занятий и здоровой нравственной опоры. Исчезла цель, делающая жизнь осмысленной. И вдобавок горести и неприятности, выпавшие на ее долю и тоже не прошедшие бесследно. Марыня сама ощутила происшедшую в ней перемену и спустя несколько дней после того, как весь вечер напрасно прождала Поланецкого, первая заговорила об этом, сидя в сумерках с пани Эмилией в примыкавшей к детской маленькой гостиной.
– Я вижу, – сказала она, – мы уже не так откровенны друг с другом. Хотелось бы поговорить с тобой по душам, но я не решаюсь: мне кажется, я недостойна твоей дружбы.
Пани Эмилия склонилась к Марыне и поцеловала ее в висок. Лицо ее светилось добротой.
– Ах, Марыня, Марыня! Всегда такая уверенная, благоразумная, и вдруг такие речи?
– Да, в Кшемене я была, наверно, лучше. Ты не представляешь, как дорог мне был этот уголок. Все дни мои были заполнены, а главное, во мне жила какая-то безотчетная надежда, что впереди меня ждет счастье. А теперь ничего этого нет, в Варшаве я себя словно потеряла, хуже того, испортилась. Я видела, как ты удивлялась, что я кокетничаю с Машко. Не говори, будто не заметила. Думаешь, я сама знаю, зачем? Наверно, оттого, что испорченная или обозлилась на себя, на него, на весь мир. Я ведь не люблю его и никогда за него не выйду, значит, поступаю бесчестно и признаюсь в этом со стыдом; но иногда словно нарочно хочется кому-то досадить. Нет, я недостойна твоей дружбы, потому что совсем не такая, как была.
И по лицу ее заструились слезы. Пани Эмилия стала еще ласковей ее утешать.
– Пан Машко явно добивается твоей руки, – сказала она ей, – и мне казалось, что ты согласна. Признаться, меня это огорчило: Машко тебе не пара, но, зная, что такое Кшемень для тебя… Я подумала, ты не хочешь его лишиться.
– Да, сначала у меня была такая мысль… Я все пыталась себя убедить, что он нравится мне, не надо его отталкивать… Ради Кшеменя. И по другим причинам. Но не сумела… Не могу даже из-за Кшеменя платиться такой дорогой ценой. Вот это-то и дурно! Зачем тогда кривить душой, обманывать пана Машко? Ведь это же просто нечестно!
– Водить его за нос, конечно, нехорошо, но, кажется, я догадываюсь, откуда это у тебя. Ты обижена и сердита на другого, правда ведь? Но ты успокойся, беда эта поправимая, только завтра же переменись с Машко, чтобы он ни на что не рассчитывал… смотри, Марыня: пока еще не поздно, пока ты не связана обещанием.
– Я сама знаю, Эмилька, и понимаю. С тобой я себя чувствую честной и порядочной – прежней; понимаю, что не только слова обязывают, но и поведение. И он вправе меня упрекнуть…
– А ты скажи, что хотела его полюбить, но не смогла. Все равно лучшего выхода нет…
Они помолчали Но обе понимали, что весь разговор впереди, что они еще не коснулись главного, больше всего занимавшего их или, по крайней мере, пани Эмилию.
– Признайся, Марыня, – сказала она, беря ее за обе руки – ты с ним кокетничала, чтобы досадить пану Станиславу?
– Да, – упавшим голосом ответила Марыня.
– Значит, его приезд в Кшемень и ваши разговоры настолько тебе запомнились?
– Да, лучше было бы забыть.
Пани Эмилия погладила ее по темным волосам.
– Ты не представляешь, какой это добрый, порядочный и благородный человек. Он наш друг и всегда любил Литку за что я ему бесконечно признательна. Но ты сама знаешь что такое дружеские отношения, обычно от них ни тепло ни холодно. А он и в этом смысле – исключение. Ты не поверишь, до чего он мил и отзывчив был в Райхенгалле: когда Литка заболела, он вызвал к ней известного доктора из Мюнхена, а мне, чтобы не волновать, сказал, будто он приехал к другому больному и надо просто воспользоваться случаем. Это человек надежный, на него можно положиться, порядочный и притом сильный. Бывают люди интеллигентные, но слабохарактерные; у других характер есть, но нет чуткости, душевной тонкости. А он соединяет в себе и то, и другое. Да, я забыла: когда деверь взялся устроить наши дела, так как Литке грозила опасность вообще остаться без всего, ему помог в этом Поланецкий. Будь Литка постарше, я бы ей лучшего мужа не пожелала. Даже передать не могу, сколько он хорошего нам сделал.
– Если столько же, сколько мне – плохого, значит, много.
– Марыня, он же не со зла. Знала бы ты, как он казнит себя, как горько раскаивается.
– Он мне сам говорил, – отвечала Марыня. – Я, Эмилька, много об этом думала; сказать по правде, ни о чем другом и думать не могла и считаю, что он передо мною виноват. В Кшемене он был со мной предупредителен, так предупредителен, что мне даже показалось – Одной тебе могу я признаться, – правда, я уже писала: после того воскресного вечера, что мы провели с ним, я заснуть не могла, все думала о нем, стыдно даже вспомнить теперь… Казалось, еще один день, еще приветливое слово, и я полюблю его на всю жизнь… И он меня – так мне казалось. А наутро он уехал, рассерженный… И из-за папы, и из-за меня, поэтому я его не осуждала: помнишь, что я тебе писала в Райхенгалль? Доверилась ему, как и ты… Так вот, он уехал… Сама не знаю почему, но я думала: приедет. Или напишет. А он не приехал и не написал. Внутренний голос шептал мне: Кшеменя он не отнимет. Отнял… А потом… Я знаю, у Машко был с ним откровенный разговор, и он заверил его, что никаких таких видов не имеет… Ах, Эмилька, дорогая!.. Может, он и не виноват, но столько горя причинить. Из-за него я не только милого моему сердцу уголка лишилась, любимых занятий, я больше потеряла: веру в жизнь, в людей… в то, что добро и справедливость восторжествуют над злом и низостью. И сама стала хуже. Я себя не узнаю: правда, правда. Имел он право поступить, как поступил со мной? Допустим. Я готова признать и его не виню. Только, видишь ли: из-за этого во мне что-то надломилось. И тут уж ничего не поделаешь, этого не поправить. Ну, правда же: разве мне легче оттого, что он потом одумался, жалеет о своем поступке, жениться даже готов? Как же легче, если я, уже почти полюбив, теперь не только его не люблю, но просто еле выношу. Он мне ненавистен, а это даже хуже полного безразличия… Я знаю, что ты задумала, но строить жизнь можно только на любви, а не на ненависти. Отдать ему руку, тая в душе такую муку и обиду, не в силах простить горя, которое он мне вольно или невольно причинил? Не думай, будто я не замечаю его достоинств, но чем они очевидней, тем мне неприятней, и я ничего не могу с собой поделать; придись мне между ним и Машко выбирать, я предпочла бы Машко, пускай и без его достоинств. Против твоих похвал ему мне нечего возразить, но знай: я его не люблю и не полюблю никогда…