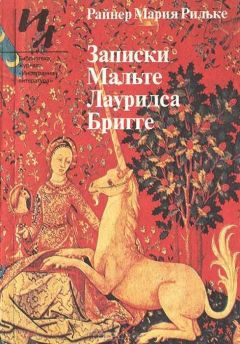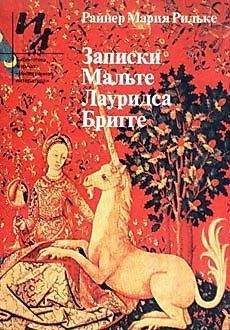Такой не тянет свои бренные ветви, доступные временам года, к вечно далекому Богу; он не спеша растит корни — и те обрамляют собою того Бога, что живет позади всех вещей, там, где уже совсем тепло и сумрачно.
А раз художники куда как глубоко забираются в теплоту всяческого становления, их плоды наливаются иными соками. Они обращаются по более широкой орбите, в которую вовлекаются все новые существа. Они одни только способны давать глубокие ответы там, где другие лишь задаются туманными вопросами. И никто не узнает, где начинается и где кончается их бытие.
Они подобны кладезю неизмеримой глубины. И вот — эпохи стоят у их края, забрасывая свои знания и оценки, словно камни, в неисследимую глубь, а потом прислушиваясь. Эти камни, брошенные тысячелетия назад, все еще падают. Еще ни одной эпохе не удалось расслышать звук, с каким они ударяются об дно.
История есть перечень тех, что пришли раньше времени. Тут посреди толпы всякий раз пробуждается кто-нибудь один, чьи корни — не в ней и чье явление обусловлено законами более обширного действия. Он несет с собой неведомые обычаи и требует места для жестов, притязающих на большее. Так он дает жизнь все преодолевающей силе и воле, перешагивающей через страх и почтительность, словно через камни. Будущее, ни на что не оглядываясь, вещает через него; а современники не возьмут в толк, как с ним обращаться, и из-за нерешительности отступаются от него вообще. И от их неуверенности он гибнет. Он умирает, как полководец, брошенный солдатами, или как пришедший не в свой черед весенний день, чей напор непонятен косной земле. Но столетия спустя, когда к его памятнику перестают возлагать венки, а его позабытая могила зарастает травой, — тогда он вновь пробуждается уже как современник и прорастает сквозь души своих потомков.
Так мы пережили заново уже многих; князья и философы, канцлеры и короли, матери и мученики, которым их эпохи уготовили непонимание и неприятие, теперь едва внятно живут рядом с нами, с улыбкой протягивая нам свои старые мысли, ни для кого уже не оскорбительные или кощунственные. Они подходят вместе с нами к концу, устало завершают свое бессмертие, делают нас наследниками своей вечности и ежедневно принимают смерть. Тогда из их памятников уходит душа, их истории становятся излишними, ибо мы владеем их жизнями так, словно сами прожили их. И оказывается, что события прошлого — словно леса, разбираемые по завершении строительства; но мы знаем, что каждое законченное здание вновь становится лесами и что, скрытая под обломками сотен прежних лесов, воспрянет последняя постройка, что станет башней и храмом, станет домом и родиной.
И когда-нибудь, когда этот монумент будет завершен, люди потянутся к художникам вереницей, чтобы стать современниками этих свершителей. Ибо они, грядущие из грядущих, прошли через дни, и ни одного из них, даже самого последнего, мы еще не узнали как своего брата. Быть может, они со своим миропониманием недалеки от нас, соприкасаясь с нами каким-нибудь из своих творений, наклоняясь над нами, так что мы на мгновение улавливаем их облик; но мы не можем и помыслить, чтобы они жили и умирали сейчас. И наши руки скорее сдвинут с места горы и деревья, чем смогут закрыть глаза хотя бы одному из этих умерших — зрячие глаза.
Даже люди, что творят в наше время, не могут пригласить в гости тех великих, чья родина — в будущем: ведь они и сами бездомны, сами — ждущие, одинокие пришельцы из будущего, нетерпеливые одиночки. А их пернатые сердца всюду натыкаются на стены времени. И даже если они — мудрецы, полюбившие свои кельи с кусочком неба, выловленным, словно сетью, решеткой окна, и ласточку, что доверчиво свила свое гнездо над их печалью, — они все равно еще и тоскуют, не в силах вечно ждать возле уложенных штабелями тканей да битком набитых ларей. Часто у них чешутся руки развернуть свои ткани, чтобы беспорядочно нагроможденные образы и краски, придуманные ткачом, обрели смысл и связь под их взглядами, и им хочется вынести из ломящихся от товара лавок сосуды и золотые уборы — вынести их из тьмы внутреннего обладания на свет пользы для людей.
Но они пришли слишком рано. И те задачи, что не разрешаются в их жизни, становятся для них предметами творчества. А они братски ставят их в ряд с долгоживущими вещами, и грусть по несбывшемуся таинственной красотой разливается над ним. И эта красота освящает их сыновей и наследников. А значит, в их творчестве живет, поджидая своей поры, племя еще не живших.
А художник по-прежнему остается плясуном, чьи движения разбиваются о жесткие стены его кельи. То, чему не хватает места в размахе его шагов и в стесненных изгибах рук, в изнеможении слетает с его губ, — или ему приходится кровоточащими пальцами процарапывать на стенах еще не ставшие движением линии своего тела.
Искусство — то, чего смутно жаждут все вещи. Все они хотят быть образами наших тайн. С радостью бросают свой увядший смысл, чтобы принять в себя какую-нибудь нашу тяжелую тоску. Они протискиваются в наши трепещущие чувства, страстно стремясь стать предметом наших переживаний. Они избегают всего условного. Они хотят быть тем, за что мы их принимаем. Благодарно и покорно хотят они носить новые имена, что дарит им художник. Они точно дети, упрашивающие взять их с собой в поездку: пусть они многого не поймут, но тысячи рассеянных и случайных впечатлений отразятся на их лицах просто и прекрасно. Вот и хотят вещи стоять перед художником в тот миг, когда он творит, раз уж он избрал их поводом для своего творения. Прячутся и в то же время открываются. Остаются во мраке, но со всех сторон пронизаны его духом, как множество поющих ликов его души.
Это зов, которому внемлет художник: страстное стремление вещей быть его языком. Он обязан поднять его из тяжких, бессмысленных привязанностей всего условного в великие взаимосвязи своей природы.
«Рождение трагедии из духа музыки»Мелодия порождает из себя поэзию, и притом всегда сызнова; только об этом и говорит нам строфическая форма народной песни: каковой феномен неизменно вызывал у меня удивление, пока я наконец не пришел к этому объяснению.
Строфы народной песни можно, видимо, уподобить тут чашам, подставленным под струю прозрачной ключевой воды. Щедро и быстро наполняет она первые праздничные сосуды, подставленные под нее. Но они не исчерпают потока. И народ несет к ключу, наконец, все свои чаши, пока они не наполняются до краев и тяжелеют. А дети подставляют под воду ковшики своих ладоней.
Музыку (великий ритм заднего плана) можно было бы понимать так: это свободная, текучая, ни к чему не приложимая сила, о которой мы с ужасом узнаем, что она не входит в наши творения, дабы осознать себя в явлении, а беззаботно, словно нас вообще нет, парит над нашими головами. Но раз мы не в состоянии выдержать ни к чему не приложимую силу (иными словами, самого Бога), то связываем ее с образами, судьбами и фигурами и, поскольку она сама, словно победитель, гордо проходит мимо явлений, выставляем на ее пути все новые уподобления.
*
Бесконечная свобода Бога была ограничена творением. К каждой вещи пристала частица его силы. Но не вся его воля связана с творением. Музыка (ритм) — это свободный избыток Бога, еще не исчерпавший себя в явлениях, и, пользуясь им, художники в слепом натиске пробуют задним числом восполнить мир в том смысле, в каком действовала, продолжая созидать, эта мощь, и творят картины тех миров, что только еще могли бы быть сотворены ею.
*
Хор: чтобы правильно понять смысл сновидения, необходимо видеть сновидца. Наше соучастие в нем усиливается, если не один человек, одно существо, но многие, ритмически движимые общностью своего сна, вызывают к жизни те явления, что представляют сценическое действо, разворачивающееся вне их сознания, словно оно свершается в их глубинах. Эти сновидцы, неизменно оставаясь сами собою, в то же время в состоянии избавить нас от страха и ограниченности действия. Но чтобы мы сопережили их бытие в целости и сохранности, не разъеденное ужасом их сновидений, необходимо, чтобы они были подобны нам, были братьями — не в случайных, но в долгоживущих чертах нашей природы. Мы спасаемся от бурных событий сцены, вступая в более размеренное круженье их танца и воспринимая от их надежной близости способность радоваться страшному как длящемуся недолго, а то и жаждать зрелища гибели, дабы поверх крушенья заглядывать в вечное, которым движим хор.
И если к грекам культура приходила через глаза, то наша вызревает в переживании. Значит, мы должны прийти на помощь переживанию там, где они создали в драме безопасное убежище для глаз. Если аттическая трагедия требовала видимого хора, мы должны воспринимать (и пробовать создавать) современную драму, исходя из ощущения хора.