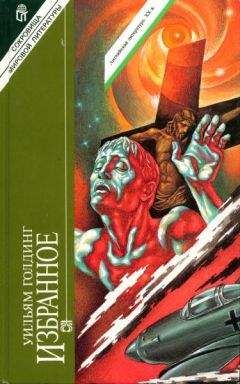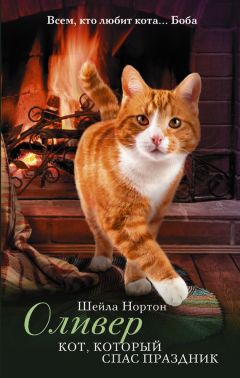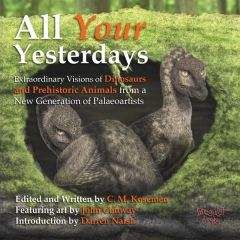Итак, мы с Теффи, наплевав на все, шли своим путем. По моим низким стандартам, она была леди. И от многого воротила нос, когда не вспоминала, что мы – передовой отряд пролетариата. К тому же у нее водились деньги – недостаточно, чтобы обеспечить мужа или любовника, но достаточно, чтобы поддержать. Поэтому я сменил комнату и адрес, не предупредив хозяйку и не расплатившись, – да и куда было посылать деньги за этот разваленный бомбой полуподвал, за этот квадрат взорванного цемента в основании шаткой, покосившейся кирпичной кладки? – но приходил тайком через день-два забрать из почтового ящика письма. И однажды нашел там письмо, которое Беатрис написала мне, когда так и не сумела выяснить, где я. Письмо было полно упреков. Я повидался с Теффи, и мы на некоторое время разбежались в стороны. Теффи кое-что разнюхала и надулась. Между нами состоялся один из вечных назидательных разговоров на тему: отношения мужчины и женщины. Не надо быть ревнивым, надо с пониманием относиться к удовольствиям, какие может дать третье лицо. Ничего нет постоянного, все относительно. Любовь – частное дело каждого. И вообще, это – физиология, а противозачаточные средства избавили человека от необходимости вести ортодоксальную семейную жизнь. А потом мы прильнули друг к другу, как к единственному устойчивому предмету во время землетрясения. И я бормотал ей в затылок:
– Выходи за меня, Теффи, заклинаю, выходи.
И Теффи фыркала у меня под подбородком, хрипло сыпала крепкими словечками и, прижимаясь, терлась лицом о мое джерси.
– Положи только глаз на другую, я из тебя все кишки вырву и ими подпояшусь!
Я отказался от временной койки в ХАМЛ[14]: Теффи на свои деньги сняла нам студию. Мы зарегистрировались в отделе актов гражданского состояния – для отвода глаз: церемония эта не имела для нас никакого значения, разве только давала возможность свободно располагаться в студии. Я получил письмо от Беатрис через Ника Шейлса – он тогда все еще преподавал в училище – и долго колебался, вскрывать ли конверт. Ник сопроводил письмо уязвленной запиской. Беатрис ходила по всем общим знакомым, разыскивая меня. Я представил себе, как она обивает пороги, краснея от стыда, и все же снова и снова выжимает из себя:
– Вы не знаете, где теперь Сэмми Маунтджой? Я куда-то заложила его адрес…
Я вскрыл конверт. Первые строки были мольбой о прощении, а дальше читать я не стал, потому что один вид первой страницы резанул меня как нож острый. В верхнем левом углу стоял крестик. Мы были вне опасности.
Сохранилось у меня еще одно воспоминание – воспоминание о сне, таком живом, что он неразрывен с рассказываемой здесь историей. Я возвращаюсь по какой-то пригородной, до бесконечности длинной дороге, мимо тянущихся по обеим сторонам бедных, некрашеных, но уныло респектабельных домов. Вслед за мной бежит Беатрис и кричит пронзительно птичьим криком. Вечереет, и тени накрывают ее со всех сторон. А из подвалов и сточных канав выступает вода, и ноги ее скользят и хлюпают, хотя мои почему-то не заливает. Вода подымается только вокруг нее, подымается и подымается.
Ну а что касается нас с Теффи, то нас вполне устраивало отсиживаться в четырех стенах, и из партии мы, как только стали падать бомбы, а мне пришло время идти в армию, потихоньку выбыли. Мы поведали друг другу историю своей жизни: я – в несколько отредактированном виде, она, думается, тоже. И достигли того редкостного уровня безопасности, когда перестаешь ожидать от партнера правды и только правды, зная, что сие и невозможно, и заранее дали друг другу carte blanche всепрощения. Беатрис и партия понемногу стерлись в моем сознании. Я рассказал обо всем Теффи, и крестик сделал свое дело. Теффи ждала ребенка.
Иного выхода, как сбежать от Беатрис, у меня не было. Что еще я мог сделать? Речь не о том, что я должен был бы сделать или что сделал бы кто-то другой. Я просто хочу сказать, что такой человек, каким я представил себя здесь и каким, оглядываясь назад, себя вижу, мог только спасаться бегством. Я не мог прикончить кошку, чтобы избавить ее от страданий. Не моя вина, что природа создала меня таким, а не иным, – способным реагировать лишь механически и неумело. Какой я был, такой и стал. Молодой человек, распинавший Беатрис на дыбе, совсем иной, чем тот мальчишка, которого вели в школу за руку мимо герцога в антикварной лавке. Где, когда прошел водораздел? Какой был у мальчишки выбор?
Где-то в эти дни я столкнулся с Джонни – столкнулся на запомнившееся четкое мгновение, которое запечатлелось в моем уме мерой различия между нами. Однажды, убегая от себя, я бродил за городом и как раз поднялся на Каунтерс-хилл там, где дорога переваливает через гребень, когда на меня на своем мотоцикле выскочил Джонни, и мне пришлось метнуться в сторону. Он, видимо, поднялся с другой стороны на скорости не менее ста миль в час, и теперь, взлетев на холм и появившись передо мной, казалось, несся в воздухе мимо, мимо. В моей памяти он мчится на фоне неба по пустой дороге. Левая рука лежит на руле. Торс откинут, голова в шлеме, насколько возможно, повернута назад и направо, к девушке, которая обхватила Джонни, а ее густая грива развевается по ветру. Правой рукой Джонни обнимает голову девушки, положив ей на макушку ладонь, и они целуются, летя на бешеной скорости через вершину холма, и плевать им на все, что было, и все, что будет потом, потому что этого «потом», может, никогда и не будет.
Я приветствую развал и разлад, причиненные войной, смерти и ужас. Пусть мир провалится в тартарары. Да, в наших умах был хаос, и хаос во всем мире, в двух царствах, столь похожих, что одно вполне могло породить другое. Разваленные дома, горы трупов и истязания – примите их как образ, и ваше собственное поведение сразу станет вполне нормальным. С какой стати терзаться из-за убийства, совершенного вами в личной жизни, когда можно публично стрелять в людей и публично получать за это благодарности? С какой стати терзать себя из-за одной растоптанной девицы, когда их взрывают тысячами? Несть мира для душ нечестивых, но война с ее разрушениями, похотью и полным отсутствием ответственности вполне его восполняет. И я еще мало воспользовался всеобщим развалом, потому что я уже приобрел кое-какую известность как военный художник.
Не надо брать Сэмми в солдаты. Пусть станет ангелом-летописцем.
– Так здесь?
– Нет. Не здесь.
Так где же? В некоторых отношениях я умен, могу видеть необычайно глубоко – как говорится, на три дюйма под землей, а значит, кому, как не мне, ответить на мною же заданный вопрос. По крайней мере могу сказать, когда я приобрел – или был наделен ею – способность видеть. Это дело рук доктора Хальде. На воле я такой способности никогда не приобрел бы. Значит ли это, что неволя явилась расплатой за новую форму знания, необходимым преддверием к нему? Но ведь результатом моей беспомощности, из которой эта новая форма возникла, было и безысходное отчаяние Беатрис, и сладчайшие радости Теффи. Я вряд ли сумею убедить себя, будто мои умственные способности настолько неповторимы, чтобы оправдать причиненное ими добро и зло. Тем не менее способностью видеть насквозь я обязан непосредственно и навсегда доктору Хальде; это он переплавил меня, перековал. И я отчетливо помню, как выглядела комната, в которой он начал этот процесс. Гестапо умело срывать все покровы со дня вчерашнего и обнажать серенькие лица.
Комната была как комната – казенная и мрачноватая.
Главный предмет обстановки составлял гигантский письменный стол, занимавший добрую треть площади пола. Это был старинный полированный стол на ножках, подобных луковичным ножкам концертного рояля. По обоим краям высились кипы бумаг, а посередине лежал журнал коменданта. Нас ставили напротив, лицом к лицу с комендантом, только он сидел, а мы стояли. Сзади помещались ящики картотеки с надписью на каждом, тщательно выведенной готической вязью. За стулом коменданта, над его головой, висела огромная фотография фюрера. Комната как комната – ничего особенного, унылая и неуютная. Судя по пластам пыли, осевшим на кипах бумаг, они валялись там очень давно.
Два шага через порог, поворот направо, приветствие:
– Капитан Маунтджой, сэр.
На этот раз за столом сидел не комендант и не его тучный помощник. Этот человек был в штатском, в темной пиджачной паре. И сидел он в вертящемся кресле, положив локти на оба поручня и сцепив пальцы. Слева, чуть сзади стоял помощник коменданта с тремя солдатами. И еще двое неизвестных в форме гестапо. Начальства хватало, но мои глаза были прикованы лишь к одному человеку – к тому, что сидел прямо передо мной. Пусть задним числом, но должен сказать: он сразу мне понравился, расположил к себе, я был бы не прочь беседовать с ним часами, как с Ральфом и Нобби. Но страх не отпускал, и сердце выпрыгивало из груди. В те дни мы еще плохо знали, что такое гестапо, но были уже достаточно наслышаны и кое о чем догадывались. К тому же этот человек был в штатском – значит, важная птица: мог не носить форму, когда не хочется.