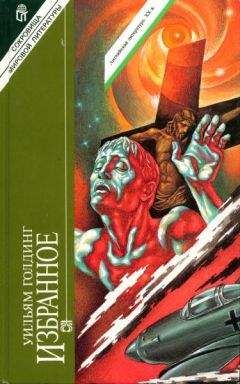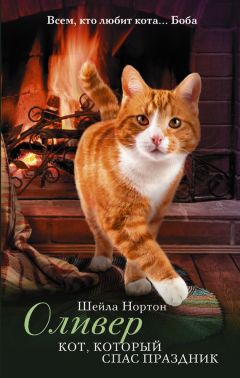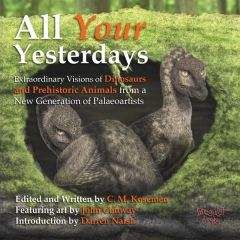– Доброе утро, капитан Маунтджой. Называть вас мистер, или Сэмюэл, или даже Сэмми? Не хотите ли сесть?
Он обернулся к солдату, стоящему от меня слева, что-то быстро сказал ему по-немецки, и тот подвинул мне металлический стул с матерчатым сиденьем. Человек за столом наклонился вперед:
– Меня зовут Хальде. Доктор Хальде. Будем знакомиться.
И при этом он еще улыбался – не леденящей, а откровенной и дружелюбной улыбкой; синие глаза лучились, щеки налезали на скулы. И я сразу услышал, как безукоризненно он говорит по-английски. Комендант объяснялся с нами по большей части через переводчика или на короткой гортанной немецко-английской смеси. Доктор Хальде говорил по-английски лучше, чем я. Я говорил на грубом, неправильном повседневном языке, а он – на таком же аскетически безупречном, каким было его лицо. Каждая произносимая им фраза отличалась той чистотой, которая соответствует ясному и логическому уму. Мои фразы были смазанными и торопливыми и произносились голосом человека, никогда не шлифовавшего себе мозги, не думавшего, ни в чем не уверенного. И тем не менее его голос выдавал иностранца, космополита, это был голос для изложения отвлеченных идей, голос, который, пожалуй, лучше бы передали математические символы, чем печатное слово. И хотя его «п» и «б» четко различались, они звучали излишне резко: одни – на какую-то долю глуше, другие – звонче, словно у него свербило в носу.
– Так удобнее?
Доктор каких наук? Сама форма головы была у него на редкость изящной. В первый момент она казалась кругловатой, потому что в глаза прежде всего бросалась гладкая лысая макушка, прикрытая черным зачесом, но, по мере того как взгляд скользил вниз, обнаруживалось, что «круглая» – не то слово: лицо и голова в целом вписывались в овал, пошире у макушки, поуже у подбородка. Лоб у него был огромный – самая широкая часть овала, – и уже сильно поредевшие волосы. Нос – длинный, а в неглубоких впадинах сидели глаза удивительной васильковой синевы.
Доктор философии?
Но больше всего его лицо поражало не изысканностью строения черепной коробки, а тугой плотью. Многое можно узнать по общему состоянию этой органической ткани. Если она изношена только из-за болезни, следы причиненных ею страданий невозможно скрыть. Но на этом лице ткань была здоровой, хотя бледной и тонкой в такой степени, какая совпадала с кожей, обтягивавшей лоб и скулы. Будь она еще тоньше, уже просвечивал бы череп. Несколько морщин вряд ли явились результатом страданий, но скорее размышлений и благодушия. Прибавьте сюда изящные руки с почти прозрачными пальцами – и перед вами портрет аскета. Человека с телом святого.
Доктор психологии?
Психологии!
Внезапно я вспомнил – мне следовало отказаться от стула. Благодарю вас, предпочитаю стоять. Так поступил бы бакеновский герой[15]. Но передо мной маячило это подкупающее лицо, звучал великолепный английский язык. И я уже сидел на стуле, слегка покачиваясь на неровном полу. И сразу же стал уязвим, как человек, увязший в массе плоти, человек, размахивающий дубинкой против рапиры фехтовальщика. Стул снова качнулся, и я услышал собственный – высокий и до абсурдности вежливый – голос:
– Благодарю.
– Сигарету?
И сигарету следовало бы отвергнуть, презреть, но тут я увидел собственные пальцы в табачных пятнах до верхних костяшек.
– Благодарю.
Доктор Хальде пошарил за правой кипой бумаг, достал серебряный портсигар и щелкнул крышкой. Я подался вперед, чтобы взять сигарету, и увидел то, что стояло за кипой. Нобби и Ральф приложили немало стараний, выясняя, как сделать так, чтобы муляжи были хоть мало-мальски на что-то похожи, но эти поделки с волосами и клоунскими кое-как сварганенными лицами не обманули бы и ребенка. Уж лучше бы обратились ко мне – я бы помог – или положили копну волос поверх натянутых до изголовья одеял.
А доктор Хальде уже протягивал серебряную зажигалку с язычком пламени. Я сунул конец сигареты в пламя, вытащил и затянулся, пуская дым.
Как ни в чем не бывало.
Доктор Хальде расхохотался. Он хохотал во весь рот, так что под глазами у него натянулись аккуратные колбаски. Лицо оставалось бледным, но под каждой колбаской проступало розовое пятнышко. Глаза лучились, зубы сверкали. Под глазами собрался треугольник морщин. Обернувшись к помощнику, доктор Хальде приглашал его посмеяться вместе. Потом вновь перевел глаза на меня, скрестил пальцы, сосредоточился. Он был на дюйм-два выше, чем я, и поэтому взирал на меня сверху вниз – дружески и забавляясь.
– Мы с вами, мистер Маунтджой, оба не совсем заурядные люди. И неприметное чувство симпатии уже возникло между нами.
Он раскинул руки:
– Мне бы преподавать в моем университете, вам – писать в вашей студии, куда от души желаю вам возвратиться.
Эти космополитичные слова обладали ужасным свойством непреложности, словно следующей фразой все вопросы будут решены. Он смотрел мне прямо в глаза, предлагая подняться над вульгарной сварой в чистую атмосферу, где цивилизованные люди могут прийти к соглашению. И я сразу испугался, чтобы он не счел меня нецивилизованным, и еще невесть чего испугался.
Сигарета задрожала у меня в пальцах.
– Обожглись? – осведомился он. – Нет? И превосходно.
Он протянул мне фарфоровую пепельницу с видом Рейна.
Я бережно взял ее и поставил на стол рядом с собой.
– Вы напрасно теряете время. Я не знаю ни как им удалось бежать, ни куда они направились.
Секунду-другую он молча всматривался в меня.
– Все может быть, – кивнул он.
Я отодвинулся и, упершись руками в края сиденья, приготовился встать. Сам тому не веря, я пытался делать вид, будто допрос окончен.
– Что ж, разрешите в таком случае…
Я приподнялся, но тяжелая рука легла мне на левое плечо и придавила к сиденью. Мелькнула розоватая кожа у запястья, но физическое прикосновение руки человека, которого я должен был бояться, лишь, напротив, разозлило меня; я почувствовал, как кровь прилила к шее. Доктор Хальде ухмылялся у меня над плечом и, примирительным жестом разведя руки ладонями вниз, старался меня успокоить. На мое плечо уже ничто не давило. Затем он извлек из кармана белоснежное батистовое облако и тщательно прочистил нос. Видимо, его и впрямь мучил насморк и в носу свербило, а по-английски он говорил безукоризненно.
Сложив батистовый платок, он улыбнулся мне:
– Все может быть. Но нам надо удостовериться.
Какие у меня непомерно большие и топорные руки! Я засунул их в карманы, но там им было неловко. Тогда я переместил их в карманы брюк. И залпом произнес две фразы, выученные мною заранее. Даже проговаривая их, я понимал: они ничего не значат, просто защитный рефлекс.
– Я офицер, я военнопленный. Я требую, чтобы со мной обращались согласно пунктам Женевской конвенции.
Доктор Хальде издал неопределенный звук – полусмешок, полувздох. И улыбнулся печальной укоризненной улыбкой, как если бы наставлял ребенка, допустившего ошибку в контрольной:
– Разумеется, именно так. Да-да.
Тут подал голос помощник коменданта, и между ними произошел быстрый обмен репликами. Взглянув на меня, потом снова на Хальде, помощник что-то яростно доказывал. Но Хальде настоял на своем. Помощник щелкнул каблуками, отдав какое-то приказание, и удалился вместе с солдатами. Я остался с Хальде и гестаповцами.
Доктор Хальде вновь занялся мной:
– Мы знаем о вас все.
– Это неправда, – мгновенно парировал я.
Он рассмеялся – искренне, но с оттенком грусти.
– Что ж, мы так и будем с вами препираться? Конечно, всего о вас мы знать не можем, ни о ком не можем. Даже о себе. Вы это хотите сказать?
Я ничего не ответил.
– Но, видите ли, мистер Маунтджой, я имел в виду несколько иной уровень – уровень, на котором определенные силы способны действовать, уровень, на котором возможны определенные выводы. Мы, например, знаем, что вам будет трудно перенести некоторые лишения, в особенности если вас насильственно им подвергнуть. Ну а я, со своей стороны, я… понимаете? И так далее.
– Что – далее?
– Вы были коммунистом. Я, знаете ли, тоже. Когда-то. Заблуждения романтической молодости.
– Не понимаю, о чем вы говорите.
– Я буду с вами откровенен, хотя не уверен, будете ли вы откровенны со мной. Война в основе своей безнравственна. Согласны?
– Возможно.
– Тут должно быть либо «да», либо «нет». Мне было очень трудно сделать выбор, но я его сделал. Быть может, последний выбор в моей жизни. Стоит принять подобную всеобщую безнравственность, мистер Маунтджой, – и человек соглашается терпеть любые неприятности. В конце концов, мы были коммунистами. Цель оправдывает средства.
Я притушил окурок о дно пепельницы.
– Какое отношение это имеет ко мне?
Держа в руке портсигар, он описал им круг в воздухе, прежде чем вновь протянуть его мне.
– Для вас, как, впрочем, и для меня, все сущее заключается в этой комнате. Мы оба – винтики неких социальных механизмов. Мой механизм в моей власти; и вы полностью в моей власти. Нас это развращает, мистер Маунтджой, но никуда не денешься.