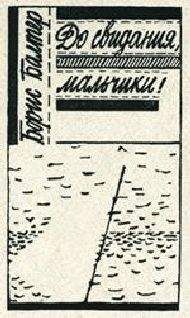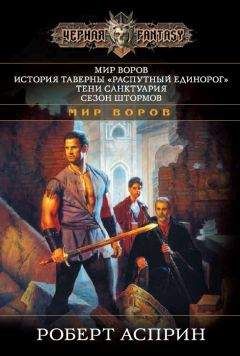Я знал, что Катя и Женя сидят у Инки и переделывают с Инкиной мамой платья к сегодняшнему вечеру. Когда я звонил, то подумал: дверь мне откроет Женя. Я нарочно так подумал в надежде, что после этого дверь откроет если не Инка, то во всяком случае не Женя. Дверь открыла Женя.
– Мы ведь просили до шести часов нас не трогать, – сказала она.
От злости я чуть не выпалил: Джон Данкер на сегодня отменяется. Сам не знаю, как я удержался.
– Успокойся, никто тебя трогать не собирается.
– Тогда все в порядке, – сказала Женя и хотела закрыть дверь. Я боком успел протиснуться в коридор, повернувшись предварительно к Жене спиной.
– Осторожно, – сказал я. – Не забывайся: я не Витька.
В коридор, откинув тяжелую портьеру, вошла Инкина мама. Первое, что она сделала, – это зажгла свет.
– А-а-а, поздравляю! – сказала она. Это слово за сегодняшний день я слышал раз пятьдесят. Но что имела в виду Инкина мама, понять было трудно.
На всякий случай я сказал:
– Спасибо.
Глаза у Инкиной мамы были тоже рыжие. Но по Инкиным глазам я сразу догадывался, о чем Инка думает, а по глазам ее мамы – нет. Когда Инкина мама на меня смотрела, я чувствовал, что она видит меня насквозь. Правда, до разговора с Инкой на бульваре меня это мало тревожило.
– Инка дома?
Я не смотрел на Инкину маму, но все равно знал, что она улыбается.
– Представь себе, с утра уселась за книги.
– Мы же ничего не успеем к вечеру, – сказала Женя.
– Я пойду к Инке? – сказал я, и получилось так, как будто я спрашиваю на это разрешение.
– Господи, какие дураки, – сказала Инкина мама и прошла в кухню.
Инка стояла коленями на стуле. Локти ее упирались в стол. Она повернула голову и косила глазами на дверь. Как только я открыл дверь. Инка мгновенно наклонилась к столу. Глупо было притворяться, что она меня не замечает, но Инка притворялась.
Я стоял у Инки за спиной. Пальцы ее левой руки прятались в волосах, а в правой она держала ручку и даже писала какие-то цифры.
– Хватит притворяться, – сказал я.
– Я не притворяюсь. Я занимаюсь. Я уже все билеты перерешала. Можешь проверить. Правда-правда.
Я и без того видел, на этот раз Инка говорила правду: под каждым билетом был подложен листок с решением примера и доказательством теорем. И совсем не для того, чтобы ее ругать, я так бежал. И с чего я взял, что она притворяется? Просто она, как и я, наверно, ни на секунду не забывала вчерашний вечер в подъезде, если даже о нем не думала. И, как и я, наверно, ждала какого-то продолжения. Но, начав говорить, я уже не мог остановиться, и говорил, и делал совсем не то, что хотел.
– Опять врешь, – сказал я. – Этот пример ты еще не решила.
– Подумаешь, сейчас решу. В корнях запуталась.
Я облокотился на стол, взял у Инки ручку и стал извлекать кубический корень. Браться за это, конечно, не стоило: ответить, сколько будет дважды два, я бы тоже сразу не смог. Я сидел слепой и глухой и только чувствовал на своей щеке Инкино дыхание.
– Володя, ты выпил?
Никогда не думал, что это доставит Инке столько радости.
– Ну, выпил, подумаешь, – мне самому понравилось, как небрежно я это сказал. Я старательно выписывал какие-то цифры и выражения и понимал, что безнадежно в них запутался.
– И ты курил!
Инка говорила, как будто в чем-то меня уличала, и каждое новое открытие еще больше радовало ее. Меня тоже. Я и бежал к ней, чтобы успеть показаться в новом для нее качестве. Но я не думал, что доставлю Инке столько радости.
– Володя, ты побрился, – говорила Инка, и ее голос просто звенел от радости. – Побрился и надушился «Красной маской». Откуда ты знаешь, что «Красная маска» мужской одеколон?
Этого я, положим, не знал; я даже не знал, что одеколон, которым обрызгал нас Тартаковский, называется «Красная маска».
– Ты-то сама откуда это знаешь?
Я наконец плюнул на кубический корень и посмотрел на Инку. Она откинулась на спинку стула, сцепив на затылке руки, и сверху на меня лился свет ее рыжих глаз.
– Я все знаю. В папином отряде есть летчик. Он каждое утро пьет коньяк и душится после бритья «Красной маской». От него всегда Пахнет вином, табаком и «Красной маской».
– Тебе нравится?
– Как он может мне нравиться? Ему же тридцать лет. Он почти ровесник моей мамы.
Мне даже в голову не приходило, что Инке может, кроме меня, кто-то нравиться.
– У тебя одно на уме. Я спрашиваю про запах.
– Знаешь, Володя, когда мы поженимся…
Инка не договорила, что будет, когда мы поженимся. Мы слишком близко смотрели в глаза друг другу. Инка слезла со стула и обошла стол. За стенкой смолкла швейная машина. Женя спросила:
– Теперь хорошо?
– Теперь сойдет, – ответила Инкина мама. – Запомни, в этом месте шов должен быть очень тонким.
Инка прижималась боком к столу и, повернув голову, смотрела в окно.
– Что будет, когда мы поженимся?
– Ничего не будет. Ты же сам говоришь, что у меня ветер в голове. Хочешь, я тебе постираю рубашку? Новую рубашку всегда надо простирнуть, прежде чем одевать. Видишь, как она топорщится. Хочешь?
– Не хочу, – сказал я. – Что будет, когда мы поженимся?
Инка уже стояла возле меня и снимала рубашку, а я, помогая ей, поднимал то одну, то другую руку и, как последний дурак, спрашивал:
– Что будет, когда мы поженимся?
Уже стоя в дверях, Инка сказала:
– Я буду поить тебя по утрам коньяком. Папиросы я тебе буду покупать тоже душистые, а не такую дрянь.
Инка вышла из комнаты, а я крикнул:
– Много ты понимаешь! Это же «Северная Пальмира».
Где ты, Инка? С кем ты? Через три года я уже пил. Но не коньяк, а простую водку. Я начал пить ее на финском фронте. По приказу полагалось пить по сто граммов. Но в приказе не было сказано, сколько раз пить. Ротные строевые записки подавались накануне, а на другой день многих из тех, кто жил вчера, сегодня уже не было, и мы пили их сто граммов. А бриться каждый день я не мог. Кожа на моем лице выдерживала палящий зной и пятидесятиградусный мороз, жгучий ветер и острый, как иглы, снег. Но не выдерживала ежедневного прикосновения бритвы. «Красной маской» я душился каждый день до тех пор, пока выпускали этот одеколон. Он исчез, кажется, перед Великой Отечественной войной. Всю жизнь я хотел быть похожим на того летчика, которого никогда в глаза не видел. Это в память о тебе, Инка. Но я так и не стал мужчиной, по которым женщины сходят с ума. Одна моя знакомая сказала, что я только внешне похож на мужчин, которых любят. Это очень обидно, но я ничего не мог с собой сделать, Инка.
Я стоял перед зеркальной дверкой шкафа. В ванной комнате лилась вода. За стеной стрекотала швейная машина. Сначала я только прислушивался. Потом стал разглядывать себя в зеркало. Ничего. Парень как парень. Я едва уловимым движением напрягал мускулы и заставлял мелко и часто вздрагивать их. Я увлекся и не заметил, как в комнату вернулась Инка. Я увидел ее в зеркале. Инка подошла и встала против меня, загородив зеркало спиной.
– Ну-ка, еще так сделай, – сказала она и ткнула указательным пальцем в мою грудь.
Я заставил вздрагивать мускул, а она сосредоточенно тыкала в него поочередно каждым пальцем.
– Володя, хочешь, я куплю тебе новую рубаху? – Инка снизу засматривала мне в лицо. – Хочешь? Я накопила деньги. Правда-правда. Хочешь?
Когда Инка на меня так смотрела, я знал: она что-то натворила. Но сейчас мне было не до этого; я думал, что должен во что бы то ни стало поцеловать Инку. Надо было для этого просто нагнуться. Но я, как дурак, смотрел Инке в глаза и поэтому нагнуться не мог. Мне все время казалось, что она догадывается о том, что я хочу сделать.
– Знаешь, какую я тебе куплю рубаху? Голубую. Я ее давно приглядела. Сейчас пойдем, и я куплю. Обидно, что у тебя нет ни одной шелковой рубахи. А вечером ты ее наденешь в курзал.
Мне было приятно, что Инка обо мне заботится. И ничего против голубой шелковой рубашки я не имел… Но разговор о рубашке мешал мне поцеловать Инку.
– Зачем мне две новые рубахи? – сказал я. – Через месяц все равно надену военную форму.
По коридору прошла Инкина мама.
– Инна!
Еще до того, как она ее позвала. Инка выскочила в коридор. По голосу Инкиной мамы я понял: что-то произошло, и стал прислушиваться.
– Что ты наделала? – спросила Инкина мама.
– Ничего особенного, просто постирала рубаху.
– Горе мое, кто же стирает такие вещи в горячей воде? Надо было простирнуть в холодной с солью.
Я очень хорошо представлял, как Инка и ее мама стоят друг против друга и разговаривают. Когда Инкина мама привела Инку записывать в школу, я подумал, что они сестры. И не только я – все так подумали. Инкиной маме было тридцать пять лет. Больше всего я боялся того времени, когда Инкина красота поблекнет от старости. Поэтому я любил смотреть на Инкину маму и при этом думал, что по крайней мере еще девятнадцать лет Инка будет такая же красивая. Это примиряло меня с жизнью. Конечно, девятнадцать лет не вечность, но все же больше, чем я к тому времени прожил. И еще я думал, что Инкина мама, а значит, и Инка останутся красивыми до сорока лет. Почему до сорока? Этот возраст я считал пределом, когда еще не стыдно думать и говорить о любви.