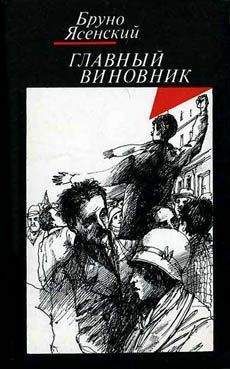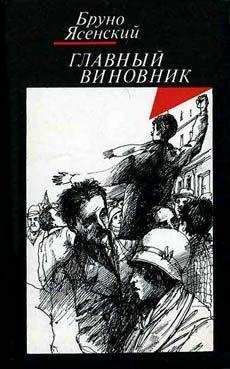После двух-трех сеансов растяпа Роберт заметно стал входить во вкус. Кончилось это, как легко можно было догадаться, весьма плачевно. Кажется, в пятый раз, преследуя в раже непослушную стаю, Роберт сорвался с крыши трехэтажного дома и со всего маху на глазах у Эрнста шлепнулся вниз.
К счастью для него, под крышей, с которой суждено было ему слететь, помещался публичный дом фрау Геринг (не состоявшей, впрочем, ни в каком родстве с будущим имперским министром). Хозяйка этого заведения, большая поборница чистоты и гигиены, имела похвальную привычку раз в месяц, по первым числам, проветривать матрацы своих шестнадцати воспитанниц. Матрацы выставлялись во двор, где при помощи специального патентованного состава саженный швейцар Зигфрид изгонял из них клопов.
Упав на эту эластичную подстилку, Роберт отделался легким ушибом плеча.
Случай с Робертом произвел на Эрнста необычайно сильное впечатление. В Эрнсте в этот день умер голубятник и родился преданный товарищ. Роберту он сказал, что голубей передушила кошка и заводить новых ему расхотелось. На самом же деле голубей своих он продал и на вырученные деньги купил небольшую коллекцию марок – страсть эта только начинала в нем просыпаться.
Увлечению всего класса марками способствовал в значительной степени толстый Фриц, папаша которого торговал на Вильгельмштрассе новинками филателии. Как человек оборотистый, отец Фрица, естественно, стремился к тому, чтобы новинок у него было побольше. Медлительность почтовых ведомств, которые не проявляли в этом деле достаточной изобретательности, вынудила его вступить с ними в соревнование. Некий спившийся учитель рисования и географии, счастливо сочетавший в себе познания из обеих областей, одаренный к тому же незаурядной фантазией, поставлял ему по весьма сходной цене модели марок любого государства, уже нанесенные на литографский камень.
Художник, по призванию анималист, особенно умел и любил рисовать диких зверей – пейзажи удавались ему меньше, но его тигры, жирафы, гиппопотамы и крокодилы были неотразимы. В качестве местожительства такого рода хищникам, конечно, больше всего подходили экзотические страны. Наибольшей привязанностью художника пользовались Никарагуа, Коста-Рика, Лабрадор, Тасмания и Борнео. Новых государств он не выдумывал, хотя мог себе это легко позволить. Мешала, очевидно, известная географическая честность. Да и не надо забывать, что до Версальского договора и образования Маньчжоу-Го у людей не было еще в этом деле достаточного опыта.
Торговля папаши Фрица широко процветала, что его и погубило. Соблазненный успехом, не довольствуясь узким кругом филателистов, он задумал обслуживать более широкие слои населения и стал дублировать германскую почту. Художник и здесь зарекомендовал себя как истинный мастер: марки его работы были сделаны тщательнее и лучше государственных, но кайзеры на них всегда немножко походили на переодетых зверей.
Кончилось все это тем, чем должно было кончиться в эпоху монополий, не допускающих конкуренции мелких аутсайдеров. Папашу Фрица вместе с его художником посадили в каталажку, и толстому Фрицу пришлось покинуть гимназию. Еще долго после его ухода парты всей школы кишели тапирами, ягуарами и жирафами.
Попасть туда, где рождаются такие марки и водятся та кие звери, было, конечно, мечтой, в равной степени пленительной и неосуществимой. Если, однако, трудно было посмотреть живого тапира на Борнео, относительно легко было сделать это в Цоо. Дальнейшие эскапады Эрнста и Роберта были направлены именно туда. Разгуливая по зоопарку, оба друга, как это часто бывает в жизни, и не догадывались, что их заветная мечта осуществилась: они попали именно туда, где родилось большинство их марок. Как раз здесь, в Цоо, черпал свое вдохновение создавший их художник.
Увлечение тропической фауной привело к знакомству с Бремом. Каким образом Эрнст познакомился с Геккелем, сказать в точности трудно. Вероятнее всего, случайно напал на одну из его книжек. Из всей книги он понял одно: человек произошел от гиббона. В этом вопросе аргументы Геккеля убедили его абсолютно. В день гибели очередного Эрнстова брата оба они с Робертом отправились в зоопарк, чтобы разыскать предка и нанести ему визит. Роберт, который иногда по воскресеньям навещал своего дедушку, знал, что старики – большие сластены, и не преминул захватить из дому несколько пирожных с кремом.
Больше всего поразил их обоих маленький рост предка, который искупала лишь густая седая борода кантиком, придававшая животному вид почтенного патриарха. От пирожных гиббон не отказался, но попытки объясниться с ним на другие темы не дали никаких результатов. Эрнст утверждал, что с гиббоном до сих пор не смог никто дотолковаться потому, что все заговаривали с ним по-немецки и никто не попробовал сделать это на более древних языках.
К следующему визиту оба друга заготовили два десятка слов на древнееврейском и на санскрите – этот последний язык казался им особенно древним – и продекламировали их в разном порядке перед клеткой. Гиббон слушал терпеливо, потом вдруг разозлился, протянул лапу и разорвал на Роберте куртку. Увидев, что предок дерется, оба друга заметно к нему охладели. Раз и другой они попытались объясниться с ним жестами, пока сторож не отогнал их от клетки, решив, что они дразнят обезьяну.
Так бесславно закончилось их первое знакомство с предполагаемым праотцем, для одного из друзей оказавшееся роковым. Застрельщиком этого знакомства был, как всегда, Эрнст, но в нем-то как раз оно не оставило никакого следа. Наоборот, Роберт, проявлявший меньший интерес и настойчивость, впоследствии так увлекся тайнами антропогенеза, что увлечение это наложило отпечаток на все дальнейшее развитие круга его интересов и предопределило даже выбор профессии. Смутное впечатление, что Геккель насчет гиббона ошибся, лишь много лет спустя принявшее форму научно обоснованной уверенности, было, пожалуй, первым толчком, который пробудил и заставил работать не по возрасту малоразвитый мозг Роберта. Школьные товарищи, учителя, репетиторы, которым сказали бы в то время, что неспособный и плохо успевающий Роберт вырастет в научного работника и будет корректировать Геккеля, наверное, прыснули бы со смеху.
Здесь кончалось детство. От комического эпизода с гиббоном шел еле заметный водораздел в интересах обоих друзей. По-прежнему заправилой в их совместных похождениях был Эрнст. По-прежнему, упрочняясь с годами, длилась их закадычная дружба. По мере роста Роберта она становилась как бы более равноправной.
Шли последние годы мировой войны, в стране начинался голод, и грозовой сквозняк уже дул над обнищавшей Германией. В эти годы дети дозревали и превращались в мужчин почти в таком же ускоренном порядке, в каком военные училища выпускали офицеров.
Эрнст уже увлекался социалистической литературой и таскал откуда-то запрещенные книжки. Роберта больше тянули естественные науки, хотя в своих политических убеждениях он всецело находился под влиянием Эрнста. Брошюру «Социализмус унд криг» они прочли вместе вслух, впервые запомнив значившуюся на ней фамилию «Ленин». Они не успели позабыть ее. Фамилия эта вскоре заполнила столбцы всех газет. Как раз в это время газеты принесли известие о большевистском перевороте в России. Во главе нового коммунистического правительства стоял автор брошюры.
Роберта известие это, от которого Эрнст горел и, размахивая руками, носился по комнате, привело в смятение. Да, он был против войны, он ненавидел войну как варварство, недостойное цивилизованного человека. Но переворот в России, судя по газетам, привел к новой гражданской войне, которая только начиналась. Теперь, конечно, очередь за Германией. Роберт искренне желал поражения кайзеру – оно должно было положить предел войне. Но пример русской революции показывал, что стоит лишь окончиться мировой войне, как вслед за ней вспыхнет гражданская, от участия в которой никому не уйти. И это как раз сейчас, когда ему так хотелось учиться! Конечно, он тоже приветствовал русскую революцию. И все же он не мог отделаться от смутной мысли, что было бы лучше, если бы это случилось несколькими годами позже, когда он успел бы окончить университет.
Физическое отвращение к войне зародилось в нем давно, еще в период мальчишества. Первые ростки этого отвращения посеял безногий голубятник. Его рассказы о войне, которую он награждал самыми нецензурными эпитетами, тем глубже запали в душу Роберта, чем разительнее была пропасть между ними и выспренними песнопениями педагогов. Все они говорили о войне, будто смаковали ее языком, вдохновенно закрывая глаза и приподымаясь на цыпочки. К тому же безногий голубятник был одной из первых жертв войны, с которой Роберт столкнулся вплотную, лицом к лицу, сохранив навсегда возмущенный протест против чего-то бесформенного и враждебного, способного так изуродовать живое существо. При слове «война» он всегда видел кургузый обрубок человека, размахивающий руками, похожий на гуся, напрасно пытающегося взлететь.