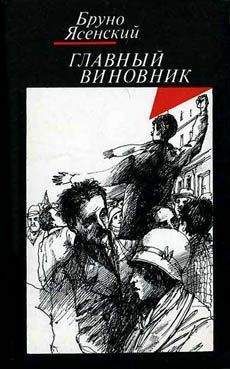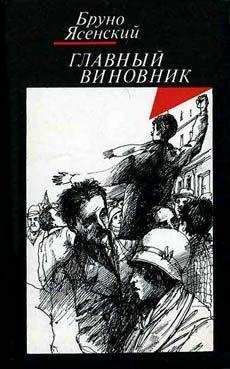Когда в городе воцарился прежний порядок, Эрнст в чужой одежде, не соблюдая необходимых мер предосторожности, отправился на поиски Роберта. После долгих блужданий он отыскал клинику. Остановившись у входа, он минуту прикидывал: выдаст его полиции этот сволочной врач или не выдаст? Потом махнул рукой и решительным шагом вошел в приемную.
Главного врача не было. В приемной Эрнсту сказали, что Роберт вчера переехал на поправку домой.
Эрнст на крыльях кинулся к дому Роберта. Горничная, открывшая ему дверь, заявила, что пускать никого не велено. Он пробовал настаивать. На шум голосов вышел профессор. Эрнст вежливо повторил свою просьбу. Профессор, багровея, закричал, чтобы он сию же минуту убирался вон и не смел больше ступить в этот дом ногой. Эрнст ответил с напускным благородством, что в его представлении люди науки должны быть немножко вежливее. Единственное, что его интересует, – это состояние здоровья Роберта. Впрочем, докончить фразу он не успел – у него перед носом захлопнули дверь.
Он пробовал звонить Роберту на следующей неделе и еще несколько недель подряд, но, услышав его голос, неизменно клали трубку. Наконец однажды горничная ответила, что профессор с сыном уехали в Италию; когда приедут – неизвестно.
В школу Эрнст больше не вернулся. Боевые товарищи помогли ему устроиться на завод Симменса.
Как-то раз, выходя из кино, он встретил одного из школьных товарищей и узнал, что Роберт в Берлине по-прежнему учится в школе. В тот же вечер Эрнст написал Роберту письмо и предложил встретиться в городе.
Ответа не последовало.
Полагая, что записка не попала к Роберту в руки, он написал второе письмо. Потом третье.
Когда прошли все сроки и у почтового окошка «до востребования» Эрнсту заявили в тридцатый раз, что письма для него нет, – это было как раз в воскресенье, – он отправился погулять в зоопарк.
Он долго бродил по саду, раза три останавливался у клетки с гиббоном. Потом не спеша пошел домой. Он сказал себе, что, очевидно, врач был прав: у Роберта кровь «А», а у него, Эрнста, «Б» – в этом все дело.
Придя домой, он не расплакался, нет, но какая-то дрянь долгое время больно щекотала в горле.
Потом прошли месяцы. Потом прошли годы. Эрнст все реже вспоминал о Роберте, быть может, потому, что само это воспоминание было для него несколько горьковато. Потом и этот привкус горечи улетучился, и о своей дружбе с Робертом Эрнст стал вспоминать изредка, раз в год, как о детском сумасбродстве.
Эрнст Гейль стал квалифицированным токарем по металлу и видным партийным работником. Он не жалел, что, прокорпев шесть лет в гимназии, он так и не смог ее окончить, хотя теперь ему тоже здорово хотелось учиться. Он занимался по вечерам. Книг по интересующим его вопросам было много, их можно было достать вполне легально. Товарищи любили его и облекали своим доверием. Начав секретарем низовой ячейки, в течение нескольких лет он дошел до окружного комитета партии и вынужден был променять профессию токаря на профессию партийного «бонзы», как, посмеиваясь, называл себя сам.
Когда его впервые выдвинули на ответственную партийную работу, он долго не соглашался, мотивируя это нежеланием отрываться от производства. Ему сказали, что выдвигают его не затем, чтобы он отрывался, а, наоборот, чтобы связался еще крепче. Попробуй-ка оторваться, мы тебя живо поставим на место! Он повиновался, и товарищам, которые выдвигали его, не пришлось в этом раскаиваться.
Много кое-чего мог бы рассказать Эрнст об этих годах своей жизни, но работники коммунистической партии в эту эпоху не отличались разговорчивостью и не писали мемуаров. Жизнь Эрнста Гейля чересчур тесно была связана со всеми политическими событиями того времени, и писать его биографию – значило бы писать историю Веймарской республики.
В 1924 году, попав по партийным делам в Мюнхен, он впервые увидел Адольфа Гитлера, выступавшего в пивной Бюргерброй. Происходило это после знаменитого пивного путча и освобождения из Ландсбергской крепости неудачного кандидата в спасители Баварии. В это время Адольф Гитлер был еще величиной чисто местного значения и заполнял собой страницы юмористических газеток и журналов одной Баварии. Право на место в юмористических журналах других стран он завоевал значительно позднее.
Особого впечатления Гитлер на Эрнста не произвел. Ораторствуя, он багровел и бил себя кулаком в грудь, как провинциальный чтец-декламатор. Мысли, высказываемые господином Гитлером, тоже не свидетельствовали о глубоком государственном уме фюрера кучки национал-социалистов. «Когда перед вами что-либо красивое, – кричал он, ударяя себя в грудь, – это признак арийского характера; когда перед вами что-либо плохое – это дело рук евреев!» Он с гордостью козырял перед коварными врагами, что у него все еще имеется около четырех тысяч приверженцев, и умолял Германию одуматься на краю гибели, которая угрожает ей от еврейской заразы. В заключение он заявил с уморительной торжественностью, словно сообщал по меньшей мере о взятии Парижа, что снова берет на себя всю ответственность за все движение всех своих четырех тысяч единомышленников, – либо враги пройдут по его трупу, либо он пройдет по трупам врагов!
Пивная ревела от восторга, потрясая в воздухе кружками.
Представление закончилось, как во всех провинциальных театрах, живой картиной. На эстраду вышли рассорившиеся после путча вожди национал-социалистов: Эссер, Фрик, Штрейхер, Федер, Дингер, Буттман – и, окружив в живописных позах фюрера, подали друг другу руки. Восторг пивной при виде этого апофеоза не имел пределов.
Покидая пивную, Эрнст сказал себе с улыбкой, что каков приход, таков и вождь. В разговоре с друзьями он заметил, что уж кто-кто, а этот гороховый шут с его четырьмя тысячами подпевал для рабочего движения Германии большой опасности не представляет.
Скажи ему в эту минуту кто-нибудь, что декламатор из Бюргерброй в точности и весьма буквально выполнит свое обещание на предмет прогулки по трупам и через десять лет судьбы Германии, в частности личная судьба его, Эрнста, будут в руках этого человека, – Эрнст, наверное, воспринял бы такой прогноз как забавную шутку. Право, он слишком уважал своих соотечественников, чтобы даже в мыслях допустить что-либо подобное.
Возможно, Эрнст был плохим провидцем, что для политика непростительно. В оправдание его можно сказать, что вряд ли во всей Германии был в то время хоть один человек, включая сюда самого фюрера, который верил бы в возможность такого исхода. У Эрнста Гейля было много товарищей, даже сердечных товарищей, близких и преданных, но друга, к которому он привязался бы так, как когда-то был привязан к Роберту, у него не было. Такого друга он встретил лишь в двадцать шестом году в лице белокурой девушки, Луизы Бруннер, партийного товарища, работницы с фабрики анилиновых красок. Осенью они поженились, и прожитые с нею два года были, пожалуй, годами, к которым Эрнст чаще всего возвращался воспоминаниями.
Иногда ему казалось, что годы эти прошли особенно быстро, и он томился досадой, как мало, по сути дела, ему удалось сохранить в памяти от жизни его с Луизой. Правда, оба они в это время здорово работали, и видеться им приходилось не особенно часто. Луиза вела большую и трудную работу у себя на фабрике…
В коммунистической печати стали проскальзывать сведения, что фабрика, будто бы производящая анилиновые краски, на самом деле изготовляет удушливые газы. Сенсационными разоблачениями заинтересовалась даже какая-то международная комиссия, явившаяся на фабрику и затем благополучно отбывшая, не обнаружив ничего предосудительного. Вскоре после отъезда комиссии Луиза и еще несколько рабочих фабрики были арестованы. Они предстали перед военным судом по обвинению в государственной измене и военном шпионаже, хотя фабрика изготовляла всего лишь мирные краски. И Луиза, и ее товарищи были приговорены к десяти годам каждый.
Эрнст не мог даже присутствовать на процессе: суд происходил при закрытых дверях. Впоследствии какими-то путями он все же узнал, что Луиза на суде вела себя отлично. Получив последнее слово, она запела «Интернационал» и лишь после оглашения приговора свалилась в обмороке. Товарищи хорошо вспоминали о Луизе Бруннер и никогда не упрекали ее в малодушии – ей было всего двадцать четыре года! По справкам тюремного ведомства, она умерла в тюрьме, не отбыв назначенного срока наказания.
Эрнст еще яростнее ушел в работу. Товарищи уважали его за стойкий, ровный характер, не подверженный отчаянию, ни другим видам истерии. Более чувствительные из них старались не заговаривать о Луизе, не желая причинить Эрнсту боль. Они ошибались. Эрнст гордился своей Луизой, говорил о ней всегда охотно, очень тепло и просто, а если иногда при звуке ее имени замолкал, в молчании его было что-то от тишины, которая залегает над залом, вставшим почтить память убитого товарища.