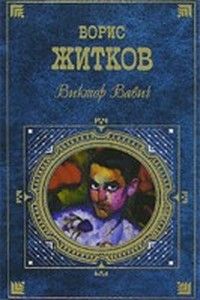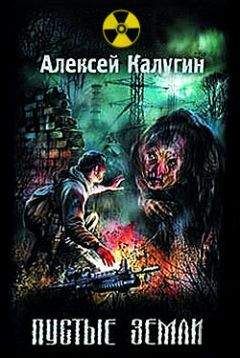"Как зверя, как мышь", - шептал Башкин сухими губами. Он вскочил, шагнул по камере, задел боком стол, вделанный в стену, ударился больно ногой о табурет. Подвальное окно высоко чернело квадратом под потолком, и противная вонь шла от бадьи в углу. Башкин стал шагать три шага от стены к двери, мимо стола, мимо койки.
И никто не знает, где он, и сам он не знал, где он. От волнения он не заметил дороги, по которой вез его городовой. Никто не знает, и с ним могут сделать, что хотят. Секретная! Который час, когда же утро? Он сунулся за часами. Часов не было - они остались на столе у чиновника. Он с обидой шарил по пустым, совсем пустым карманам. Лазал трясущимися, торопливыми руками. "С. и С." - вспомнилось Башкину, но оно мелькнуло, как сторожевая будка в окне вагона, и мысль, хлябая, бежала обиженными ногами дальше, дальше.
"Что за глупость? - бормотал Башкин. - Ерунда, форменная, абсолютная, абсолютная же". Башкин притоптывал слабой ногой.
Но шаги за дверью снова остановились. Башкин с шумом повалился на матрац и натянул пальто на голову.
Башкин ждал утра, - он не мог спать, - мысль суетливо билась, рыскала, бросалась, и отдельные слова шептал Башкин под пальто:
- Назвался!.. Абсолютно, абсолютно же!.. Чушь!.. женским полом!.. дурак!.. - И он в тоске ерзал ногами по матрацу.
Застучали бойкие шаги, захлопали в коридоре двери, замки щелкают. Вот и к нему. Вот отперли, - Башкин разинутыми глазами смотрел на дверь. Вошли двое. Один поставил на стол большую кружку, накрытую ломтем черного хлеба, другой в фуражке и с револьвером у пояса, брякая ключами, подошел к Башкину. Он был широкий, невысокого роста. Сверх торчащих скул в щелках ходили черные глазки. Он ругательным взглядом уставился на Башкина, поглядел с минуту и сказал полушепотом,- от этого полушепота Башкина повело всего, - сказал снизу в самое лицо:
- Ты стукни у меня разок хотя, - он большим ключом потряс у самого носа Башкина, и зазвякала в ответ вся связка, - стукни ты мне, сукин сын, разок в стенку, - я те стукну. Тут тебе не в тюрьме.
Башкин не мог отвечать, да и не понял сразу, что говорил ему надзиратель, а он уже пошел к дверям и с порога еще раз глянул на Башкина.
- То-то, брат!
Башкину было противно брать этот хлеб.
"Ничего, ничего от них брать не буду, ничего есть не стану - говорил Башкин, - и умру, умру от голода". Он снова повалился на койку.
Это было утро. Но свет - все тот же: мутный, красноватый свет от лампочки, которая гнойным прыщом торчала на грязном потолке. Окно было забито снаружи досками.
СТАРИК Вавич до утра думал, думал все о том, как сын его Витя придет нахмуренный, - он знал, что Виктор злобился последнее время до того, что едва удерживался, чтоб не хлопать дверями, и шептал, чтоб не кричать, - и вот Витя чиркнет спичку - и вот письмо: "Виктору Всеволодовичу".
И старику чудилось, как дрогнет у сына сердце, и сын ночью, в тишине, прочтет письмо и... и, может быть, побежит к его двери и постучит. Всеволоду Иванычу раз даже показалось, что хлопнула калитка во дворе, и сердце забилось чаще. Под утро он заснул в кресле. Он долго не выходил из своей комнаты. Слышал, как Тая брякнула самовар на поднос в столовой. Тихо было в квартире, только слышно, как осторожно стукала посудой Тая. Наконец Всеволод Иваныч вышел. Он вышел, осунувшийся и побледневший, как после утомительной дороги.
Оп пил чай и не решался спросить у дочки, приходил ли Виктор. Торговка застучала в кухню, запела сиплым голосом:
- А вот огурчиков солененьких.
Тая стукнула чашкой в блюдце и бросилась в кухню. А Всеволод Иваныч зашлепал туфлями глянуть, не висит ли шинель Виктора. Нет ее на вешалке, и он проворно заглянул к Виктору в дверь. Письмо лежало посередь стола аккуратно, прямо, как будто лежало для него, для Всеволода Иваныча: велел лежать, вот и лежу, хоть знаю, не к чему это. И Всеволод Иваныч понял, хоть и отмахивался, что письмо это не будет у Виктора. Он поспешил назад к своему стакану. Он запыхался от волнения, от спешки и старался это скрыть, когда вернулась Тая с огурцами. После обеда он вздремнул. Проснулся - было уже темно.
- Таиса! - крикнул старик.
- Сейчас, - не сразу отозвалась Таинька. Она вбежала в темную комнату. В дверях Всеволод Иваныч успел заметить ее силуэт: Тайка была в своем выходном платье.
- Не приходил? - спросил Всеволод Иваныч.
- Нет, - сказала Тая, - не было его. Его не-бы-ло, - как-то манерно пропела Тая и попятилась к двери.
- Что за аллюры? - нахмурился Всеволод Иваныч, хотел крикнуть, вернуть дочь. Но вдруг показалось, что все права и всю правду из него вынули, и не может, нечем ему корить дочь.
Он слышал, как через минуту сбежала со ступеней Тая, как хлопнула калитка, и звякнула с разлета щеколдой.
"Пойти к ней, - подумал он о жене, - хоть поговорить так, о чем-нибудь, - нельзя ее тревожить. И мать больную бросила", - подумал он горько о Тае. Он тихонько поплелся к жене по пустым комнатам. Но в это время отчаянно залился пес у крыльца жадным, оскаленным лаем.
"На чужого", - схватился Всеволод Иваныч и бросился в кухню. Он открыл дверь в темноту, - тревога давила, спирала дух, он едва на минуту угомонил пса и услыхал из темноты:
- Заказное!
Всеволод Иваныч сбежал со ступенек, стукнулся в темноте прямо о почтальона, туфли липли, слетали в грязи. Всеволод Иваныч напялил очки, дрожали его руки, долго искал чернила, долго не мог понять, где надо расписаться, - почерком Виктора, четким, канцелярским, с писарским форсом, был написан адрес на письме, что лежало в разносной книге. Наконец Всеволод Иваныч справился. С двугривенным и книгой, под лай собачий, спустился он в липкую грязь к почтальону.
- Вот и... вот, - ловил он впотьмах руку почтальона, чтоб ткнуть книгу и двугривенный.
Всеволод Иваныч в столовой под лампой вскрыл письмо и не мог читать. Он утирал под очками глаза, бумага прыгала в руке. Он положил ее на скатерть и стал разбирать: "Любезный папаша, - писал Виктор. - Я уезжаю и в этом моем письме прощаюсь с вами. Я спешно еду на службу, чтоб зарабатывать себе независимый хлеб. Мы с вами диаметрально не сходимся во мнениях. Но я надеюсь, моя попытка стать на самостоятельные ноги заслужит в будущем у вас уважение. Передайте мой глубочайший поклон маме. Я крепко ее целую, и пусть она, милая, не тревожится, скажите ей, что мне очень хорошо и что, как только смогу, приеду, ее поцелую сам. Пусть будет покойна.
С почтением В. Вавич".
"Нет, нет! Не образумил я его. Не сумел, не сумел, - шептал старик. - Отпугнул". Он глядел на это письмо, написанное острым почерком штабного писаря, и на "вы", и "независимый хлеб", и "диаметрально расходимся". Первый раз на бумаге. Как будто что в лоб ударило Всеволода Иваныча, - кто же это пишет? Это Витя, мой, наш Витя, Виктор. Как же он не видал, как упустил, не заметил, когда, как сделался тут в доме, под боком, на глазах - готовый человек, тот самый, из которых и делаются паспортисты, телеграфистки? Это ударило в лоб Всеволода Иваныча. Он сидел на стуле прямо, свесив плетьми руки, и глядел в стену неподвижными глазами. И на "вы" пишет, противно, как пишет зять лавочнику: "любезный папаша". Всеволод Иваныч перевел дух.
- Что там? - слабым голосом, через силу, окликнула больная из своей комнаты.
Всеволод Иваныч вздрогнул. Он встал и поспешно зашагал в мокрых носках к жене.
- Вот, милая, Витя письмо прислал, - выпалил Всеволод Иваныч. - На службу, на службу поехал. Спешно вызвали, понимаешь, место ему... не успел проститься. Место вышло, - приговаривал Всеволод Иваныч.
- Слава тебе, Христе! - вздохнула старуха. - Дай ему, Господи, - и она подняла левую руку и стала креститься.
Парализованная правая бледной тенью вытянулась поверх одеяла, белая, в белом рукаве кофточки, при мутном свете лампочки.
- Дай ему, Господи, - шептала больная, - дай Витеньке.
И Всеволод Иваныч вспомнил, как Виктор написал: "пусть она, милая, не тревожится". "Для нее нашлись слова, нашлось сердце", - залпом подумал старик.
Он стал целовать бледную старушечью руку с жаром раскаяния, как давно когда-то, после первой измены, он целовал руку жены, и шептал, задыхаясь:
- Велел Витя целовать... тебя... поцелуй, говорит, ее, милую... хорошенько, говорит... тысячу раз, говорит.
Старуха с трудом подняла левую руку, старалась ею поймать мужнину голову, не доставала, а он не видел, он прижался щекой к беспомощной белой руке и мочил слезами кружевной рукав.
ВИКТОР катил в вагоне. Колеса под полом урчали, и весь вагон наполнился шумом движения. Колеса стучали на стыках рельсов и отбивали Виктора все дальше, дальше от отца. Было чуть жутко, но все же Виктор тайком от себя радовался, что стелется сзади путь. Он охотно хватал у дам багаж, совал чемоданы на полки и после этого говорил дамам "мерси" и кланялся.