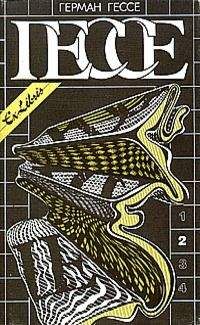Перед этими открытками я и сегодня опять постоял некоторое время, ощущая такую безысходность и скуку и такое жгучее желание уйти от всего этого, может быть и достойного уважения, мира концертов, игроков, корректных женихов и невест и открыток с бураками, что закрыл глаза и от всего сердца стал молить бога о спасении, так как, по всем признакам, был весьма близок к приступу глубокой разочарованности и отвращения к жизни, каковые приступы, будто назло, непременно приключаются со мной всякий раз, как я серьезно и с наилучшими намерениями пытаюсь покончить со своим отшельничеством и нелюдимостью и делить радость и горе с большинством своих ближних.
И господь мне помог. Едва я закрыл глаза и отвратил сердце от курортного и бурачного мира, томясь по знаку или зову из других, более мне близких и священных сфер, как меня осенила спасительная мысль. В гостинице имелся не всем постояльцам известный укромный уголок, где наш хозяин — в нем много таких милых черт — держал двух пойманных молодых куниц в проволочной тюрьме гуманных размеров. Мне внезапно пришла охота взглянуть на куниц, и я, не рассуждая, поспешил обратно в гостиницу и прямиком направился к их темнице. Едва я их увидел, как все встало на место, я нашел именно то, что мне требовалось в эту критическую минуту. Обоих благородных и красивых зверьков, доверчивых и любопытных, как дети, без труда удалось выманить из спальной норы, и, опьяненные собственной силой и ловкостью, они стали бешеными скачками носиться по всей просторной клетке, потом внезапно остановились возле меня у сетки, усиленно втягивая воздух розовыми носиками и обдавая мою руку влажным теплом. Большего мне и не требовалось. Заглянуть в эти ясные зверушечьи глаза, увидеть эти облеченные в мех дивные творения божественной мысли, почувствовать их теплое живое дыхание, услышать их острый первозданный запах хищников — этого было достаточно, чтобы меня успокоить и убедить в нерушимом существовании всех планет и неподвижных звезд, всех пальмовых рощ и девственных лесов и рек. Куницы были мне порукой в том, чему достаточной порукой вполне могло бы служить созерцание любого облачка, любого зеленого листочка; но мне потребовалось более сильное доказательство.
Куницы оказались сильнее открыток, концерта, игорного зала. Пока есть еще куницы, пока есть еще аромат первозданного мира, есть еще инстинкт и природа, до тех пор мир будет еще приемлем для поэта, еще прекрасен и обольстителен. Вздохнув полной грудью, я почувствовал, как спадает гнет, посмеялся над собой, раздобыл для куниц кусочек сахару и с облегчением вышел пройтись на воздух. Вечерело. Солнце стояло почти у самой кромки лесистых гор, и прочерченная легкими золотистыми облачками голубизна младенчески ясно осеняла долину моих блужданий, с улыбкой почувствовал я близость блаженного часа, подумал о любимой, стал перебирать возникающие строки, ощутил музыку, ощутил дуновение разлитого в мире счастья и благости, просветленный скинул с плеч груз прожитого дня и птицей, мотыльком, рыбой, облаком устремился в радостный, изменчивый, ребяческий мир форм и образов.
Об этом вечере — я тогда, усталый и счастливый, очень поздно возвратился домой — я не стану здесь рассказывать. Не то вся моя философия ишиатика пойдет прахом. Счастливый, усталый, что-то напевая, вернулся я ночью, и, гляди-ка, даже сон не бежал от меня сегодня, даже он, пугливейшая птица, доверчиво спустился и унес меня на синих своих крылах в рай.
Долго увиливал я от написания этой главы. Но ничего не поделаешь.
Когда я две недели назад со всей тщательностью и осторожностью выбрал в гостинице свой 65-й номер, то, в общем, не прогадал. Светлая, оклеенная приятными обоями комната с альковом, где стоит кровать, порадовала меня непривычной, оригинальной планировкой; снаружи никакие строения не заслоняют света и даже открывается неплохой вид на реку и виноградники. Кроме того, комната на самом верхнем этаже, так что надо мной никто не живет, и шум с улицы почти сюда не доходит. Словом, выбрал удачно. Тогда же я справился о соседях и получил самые успокоительные сведения. С одной стороны жила старая дама, которую в самом деле никогда не было слышно. Зато с другой, в номере 64, жил голландец! На протяжении двенадцати дней, на протяжении двенадцати горестных ночей, господин этот владел всеми моими мыслями, ах, чуть не овладел всем моим существом, обратился для меня в некий мифический персонаж, в идола, демона, злого духа, которого я лишь несколько дней назад наконец поборол.
По его виду никогда этого не скажешь. Столько дней не дававший мне работать, столько ночей не дававший мне спать, господин из Голландии вовсе не какой-нибудь неистовый буян или одержимый музыкант, он не является домой в неурочные часы пьяный, не колотит жену и не ругается с ней, он не свистит и не поет, даже не храпит, во всяком случае не настолько громко, чтобы меня потревожить. Он солидный, благовоспитанный, не первой молодости человек, ведущий размеренную, как часы, жизнь, и не подвержен каким-либо из ряда вон выходящим дурным привычкам — так возможно ли, чтобы этот примерный гражданин заставлял меня так страдать?
Возможно и, к сожалению, факт. Две главные причины, два краеугольных камня моего несчастья заключаются вот в чем: между номерами 64 и 65 имеется дверь, хоть и заложенная, и столиком замаскированная, но отнюдь не звуконепроницаемая дверь. Это первое несчастье, к тому же неустранимое. Второе, худшее: у голландца есть жена, и дозволенными средствами ее тоже не уберешь ни со света, ни из 64-го номера. К тому же, на мою беду, соседи, подобно мне, принадлежат к сравнительно редкой категории гостиничных постояльцев, которые проводят большую часть времени у себя в комнате.
Будь у меня тоже тут с собой жена, или будь я учителем пения, или имей я рояль, скрипку, валторну, гаубицу или литавры, я бы еще мог вступить в борьбу с голландским соседом в надежде на успех. А так что же получается: чета голландцев за все двадцать четыре часа не слышит с моей стороны ни единого звука, я обхожусь с ними, можно сказать, как с коронованными особами или тяжелобольными, я непрестанно изливаю на них неизмеримое благодеяние полной и абсолютной тишины. А чем отвечают они на такое благодеяние? Они предоставляют мне, поскольку спят каждую ночь от двенадцати до шести, ежедневную передышку в шесть часов. Я волен по своему усмотрению употребить это время на работу или сон, на молитву или медитацию. А остальными восемнадцатью часами я не распоряжаюсь, они мне не принадлежат, они, эти каждодневные восемнадцать часов, проходят в известном смысле вовсе даже не у меня в комнате, а в 64-м номере. Восемнадцать часов на дню в 64-м номере болтают, смеются, делают туалет, принимают гостей. Нет, там не забавляются огнестрельным оружием, не увлекаются музыкой, не дерутся, это я признаю. Но там и не задумываются, не читают, не предаются размышлениям и не молчат. Неиссякаемым током текут разговоры, подчас там собирается по пяти-шести человек, а вечером супружеская чета болтает до половины двенадцатого. Потом следует звяканье стекла и фарфора, шурканье зубных щеток, передвижка стульев и мелодии полосканья. Потом трещат кровати и потом настает и воцаряется тишина (это я опять-таки признаю), воцаряется до раннего утра, примерно часов до шести, когда один из супругов, не знаю он или она, встает, идет, сотрясая паркет, принимать ванну и вскоре возвращается обратно; между тем и для меня настал час приема ванны, а после моего возвращения нить разговоров, шума, смеха, передвижка стульев и так далее уже не прерывается почти до полуночи.
Будь я рассудительным, нормальным человеком, как другие, я легко бы примирился со своим положением. Сдался бы, понимая, что двое сильнее одного, и, по примеру большинства курортников, проводил день где-нибудь вне номера, в читальне или курительной комнате, в коридорах, в курзале, в ресторане. Ночью же без помех спал. Но я одержим неуемной, безрассудной, изматывающей страстью просиживать днем по многу часов в одиночестве за письменным столом, напряженно думать, напряженно писать, часто лишь для того, чтобы затем уничтожить все написанное; а ночью, хоть я только и мечтаю уснуть, засыпание для меня дело сложное, полудремота длится часами, да и сон очень не крепок, очень легок и тонок, достаточно дуновения, чтобы его оборвать. И как бы я к десяти или одиннадцати часам ни уставал и как бы меня ни клонило ко сну, ничего не поможет, все равно я не смогу спать, если рядом голландцы принимают у себя гостей. И пока я, измученный, томлюсь, дожидаясь полуночи, дожидаясь, когда приезжий из Гааги, может быть, дозволит мне уснуть, от ожидания, прислушивания, мыслей о завтрашней работе я уже разогнал сон и настолько взвинчен, что проходит большая часть отпущенных мне шести часов отдыха, прежде чем я в конце концов ненадолго засыпаю.