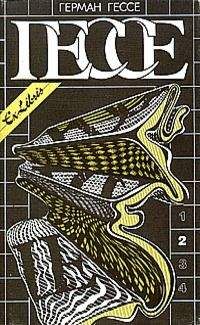Друзья, которым лучше известны мои чувства и образ мыслей, мои верования и взгляды, могут себе представить, как я страдал в этом недостойном положении, как должна была меня тревожить и мучить такая непроизвольная, всем сердцем отвергаемая мною ненависть к невинному — причем не из-за невиновности моего «врага» и несправедливости моего к нему отношения, но прежде всего из-за нелепости собственного образа действий, из-за глубокого, принципиального противоречия между моим реальным поведением и всем тем, что утверждали мой разум, мои убеждения, моя вера. Ведь самая глубокая моя вера, самое священное для меня убеждение заключается в единстве, в божественном единстве вселенной, все страдания, все зло происходит лишь из-за того, что мы, каждый в отдельности, перестали воспринимать себя как неразрывные части целого, что наше «я» преувеличивает свое значение. Много в своей жизни я страдал, много сотворил дурного, много натерпелся по собственной вине тяжелого и горького, но всегда и неизменно мне удавалось спастись, забыть свое «я» и поступиться им, почувствовать единство, признать иллюзией разлад между внутренним и внешним, между «я» и миром и с закрытыми глазами смиренно раствориться в единстве. Легко мне это никогда не давалось, меньше всего я гожусь в святые, и все же всегда и неизменно повторялось со мной чудо, которому христианские теологи дали прекрасное имя «благодати» — божественное состояние умиротворенности, непротивления, добровольного приятия, являющегося не чем иным, как христианским самоотрешением или индусским осознанием единства. И вот — увы и ах! — я опять оказался вне всякого единства, стал разобщенным, страдающим, ненавидящим, враждующим «я». Конечно, имелись и такие, я и тут не был одинок, существовало множество людей, вся жизнь которых была постоянной борьбой, воинственным самоутверждением своего «я» в противовес окружающему миру и которым мысль об единстве, любви и гармонии неведома и чужда, показалась бы глупостью и слабостью, да что там, вся практическая общепризнанная религия современного человека состоит именно в возвеличении своего «я» и его борьбы. Но хорошо себя чувствовать при таком выпячивании своего «я» и борьбе за него способны разве что натуры примитивные, сильные, нетронутые первобытные существа, тогда как знающим, через страданье прозревшим, через страданье одухотворившимся не дано найти в этой борьбе счастья, для них счастье мыслимо лишь в забвении себя, в ощущении единства. Эх, хорошо простакам, которые могут любить себя и ненавидеть своих врагов, хорошо патриотам, которым нет нужды сомневаться в себе, потому что сами они-де ни на столечко не виноваты в бедствиях и нищете своей страны, а, конечно же, только французы, или русские, или евреи, все равно кто, но всегда кто-то другой, всегда «враг»! Может, люди эти, девять десятых живущих на земле, в самом деле счастливы в своей варварской первобытной религии, может, им на зависть легко и весело живется в их панцире глупости или на редкость изобретательного умоненавистничества — хоть и это весьма сомнительно, ибо где взять общее мерило для счастья тех людей и моего собственного, для их и моего страданий?
Долгую, мучительно долгую ночь провел я в таких размышлениях. Жертва голландца, который рядом кашлял, харкал и топал взад и вперед по комнате, я лежал потный и изнемогающий в постели, глаза у меня ломило от долгого чтения (а что другого мне оставалось делать?), и я сознавал: довольно, надо немедленно положить конец этому состоянию, этой муке и позору. Но едва эта ясность, это убеждение или решение, озарила меня с холодной беспощадностью утреннего света, едва в душе ясно и твердо определилось: «Это нужно теперь же до конца выстрадать и разрешить», как поначалу выплыли обычные глупые фантазии, хорошо знакомые всякому нервному человеку в особо мучительные минуты. Лишь два пути, как казалось, могли вывести меня из моего жалкого состояния, и один из них мне предстояло избрать: либо покончить с собой, либо объясниться с голландцем, взять его за горло и победить. (Он тут как раз снова принялся внушительно кашлять.) Обе идеи были прекрасны и спасительны, хоть и несколько ребячливы. Прекрасна была мысль покончить с собой одним из общепринятых способов, которые не раз прикидываешь, с характерным для всех самоубийц ребячливым чувством: «Вот я себе сейчас горло перережу, вам же будет хуже!» Но прекрасна была и другая картина разделаться не с собой, а с голландцем, задушить его или пристрелить и, оставшись в живых, восторжествовать над его грубым, неодухотворенным жизнелюбием.
Эти наивные фантазии уничтожения себя или своего врага скоро, впрочем, иссякли. Можно было какое-то время себя ими тешить, искать прибежище в картинах желаемого, которые, однако, быстро блекли и теряли свою привлекательность, ибо после краткого блуждания по такому лабиринту желание утрачивало силу, и я должен был признаться в том, что оно было лишь данью мгновенной экзальтации и что ни своей смерти, ни смерти голландца я на самом деле всерьез не желал. Его удаление отсюда вполне бы меня удовлетворило. Тогда я попытался облечь это удаление в конкретные образы, зажег свет, достал из ящика ночного стола железнодорожный справочник и не поленился составить для голландца безукоризненно расписанный маршрут, согласно которому ему завтра же чуть свет надлежало отсюда отбыть и возможно быстрее очутиться у себя на родине. Занятие это доставило мне некоторое удовольствие: я представлял себе, как голландец в холодной предрассветной тьме встает, видел и слышал, как он в последний раз совершает в 64-м номере утренний туалет, обувается, захлопывает за собой дверь, видел, как, поеживаясь, он едет на вокзал и отбывает, видел, как в восемь утра он в Базеле ругается с французскими таможенниками, и чем дальше я мысленно его спроваживал, тем легче мне становилось на душе. Однако уже в Париже воображение мне отказало, и еще задолго до того, как я доставил голубчика на голландскую границу, вся картина рассыпалась на части.
Все это было игрой, забавой. Так дешево и просто мне не одолеть врага врага во мне самом. Ведь дело заключалось не в том вовсе, чтобы как-то отомстить голландцу, а в том, чтобы найти осмысленную и достойную меня позицию по отношению к нему. Задача была ясна: я должен побороть свою бессмысленную ненависть, должен полюбить голландца. Тогда, сколько бы он ни харкал и ни гремел, превосходство будет на моей стороне, я буду неуязвим. Если мне удастся его полюбить, ему уже не поможет никакое здоровье, никакая его энергия, тогда он в моей власти, тогда его образ не вступит в противоречие с моей идеей единства. Цель достойная, так за дело, надо с толком использовать бессонную ночь!
Задача была столь же простой, сколь и сложной, и я действительно потратил почти всю ночь на то, чтобы ее разрешить. Голландца надо было преобразить, переработать, из объекта моей ненависти, из источника моих страданий пересоздать, переплавить его в объект моей любви, участия, братских моих чувств. Не удастся мне это, не найду я в себе нужного для такой переплавки внутреннего жара, тогда я пропал, тогда голландец по-прежнему будет стоять у меня поперек горла, и я еще много дней и ночей буду давиться этой костью. То, что мне предстояло сделать, было всего лишь выполнением чудесной заповеди «любите врагов ваших». Я уже давно привык воспринимать все эти удивительно покоряющие евангельские речения не просто как мораль, как приказание, как «ты должен», а как дружеские советы истинного мудреца, который подмаргивает нам: «А ты хоть разик попробуй точно выполнить эту заповедь, увидишь, как тебе станет легко». Я понимал, что в этих словах заключено не только высшее из моральных требований, но и высшее и мудрейшее учение о душевном благополучии и что вся евангельская теория любви, помимо всех прочих ее значений, имеет значение и прекрасно продуманной душевной терапии. В данном случае это было совершенно очевидно, самый неискушенный психоаналитик, только что со студенческой скамьи, мог бы подтвердить, что между мной и спасением стояло единственное еще не выполненное требование — возлюбить врага своего.
Так вот, я преуспел, он не остался стоять у меня костью в горле, он был переплавлен. Но далось мне это нелегко, стоило больших усилий и труда, стоило двух-трех ночных часов огромного душевного напряжения. Но дело было сделано.
Начал я с того, что возможно яснее и отчетливее вызвал в душе пугающий образ голландца, вплоть до рук и каждого пальца на руке, вплоть до ботинок, бровей, каждой морщинки на висках, пока явственно не увидел его всего, внутренне полностью не овладел им и волен был заставить его ходить, сидеть, спать. Я представлял его себе утром чистящим зубы и вечером засыпающим в постели, видел, как у него устало смыкаются веки, видел, как вяло клонится шея и голова падает на подушку. Пожалуй, с час пришлось мне для этого с ним провозиться. Но я многого достиг. Полюбить что-то означает для писателя вобрать в себя, в свою фантазию, греть и лелеять там, играя, поворачивать туда и сюда, вложить частицу собственной души, оживить собственным дыханием. Так я и поступил со своим врагом, покуда им не овладел и он не вошел в меня. Если б не его коротковатая шея, ничего бы, вероятно, не получилось, но меня выручила шея. Я мог сколько угодно одевать и раздевать голландца, совать его в шорты или сюртук, в байдарку или за обеденный стол, делать из него солдата, короля, нищего, раба, старика или ребенка, в любом, даже в самом измененном облике, у него сохранялась короткая шея и несколько выпученные глаза. Эти признаки были его слабым местом, тут и следовало его атаковать. Долго не удавалось мне скинуть голландцу годы, увидеть его молодым супругом, увидеть женихом, студентом и школьником. Но когда мне наконец удалось превратить его в маленького мальчика — шея его впервые пробудила во мне участие. Через жалость и сострадание нашел он путь к моему сердцу достаточно мне было увидеть, как у крепкого подвижного мальчика, к великой тревоге родителей, обнаружились первые признаки предрасположения к одышке. По тому же пути жалости и сострадания двинулся я дальше, и тогда не потребовалось особого искусства, чтобы набросать себе также будущие годы и ступени. А когда я достиг того, что наконец увидел, как постаревшего на десять лет беднягу хватил первый удар, то все в нем вдруг стало трогательно взывать ко мне, толстые губы, тяжелые веки, невыразительный голос — все заговорило в его пользу, и еще прежде чем голландца в неуемной моей фантазии настигла воображаемая кончина, его человеческое естество, его слабость, неизбежная смерть стали мне до того по-братски близки, что я давно уже перестал питать к нему какое-либо зло. Тут я обрадовался, закрыл ему навеки глаза, смежил свои собственные, потому что уже светало, и, вконец разбитый долгими ночными муками творчества, я, как бледная тень, маячил над подушками.